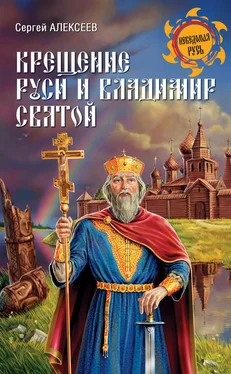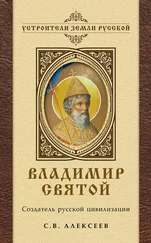На Севере, в новгородских землях, где особенно развит был культ Велеса, волхвы составляли нечто вроде влиятельной корпорации, центрами которой являлись капища «скотьего бога». Только здесь, в их тайном учении, язычество приобретало черты целостной системы. Эта «глубинная» мудрость являлась наследием южнобалтийских предков новгородцев. Тамошние славяне создавали довольно сложные религиозные построения, разветвленные пантеоны богов – правда, у каждого племени свои.
Но и волхвами славянское языческое «духовенство» не исчерпывалось. Были еще жрицы женских культов, ведьмы, потесненные новым патриархальным порядком, но еще не сдавшие полностью своих позиций, не превратившиеся просто в ночных колдуний. Тем не менее злое колдовство им издавна приписывали, и не без оснований – обряды ведьм всегда были буйны, а то и жестоки. Служителей мужских и женских божеств разделяла вражда. Летописи рисуют волхвов даже XI века, времен христианских, охотниками на ведьм. Что же происходило, пока и те и другие еще оставались в силе, но за спинами волхвов стояла военная мощь княжеской дружины? Языческий в основе своей обряд сожжения чучела «ведьмы» в середине лета – не просто невинная забава…
А на местах, в народной толще, жили и трудились сотни мелких заклинателей и знахарей, никакого отношения к жреческим иерархиям вообще не имевших. И простой славянин чаще имел дело с ними – точно так же, как чаще взывал к лешему или полевику, чем к Перуну.
Рюриковичи, обосновавшись в Киеве, восприняли почитание Перуна. Его капище на теремном дворе Олега и Игоря может с некоторой долей условности считаться религиозным «центром» древнейшей Руси. Но, с другой стороны, почитали Олег с Игорем и Велеса. Его капище располагалось не на Киевской Горе, не в княжеской крепости, а к северу, за открытым торгово-ремесленным Подолом – в Оболони. В договорах с Византией русы с равным рвением клянутся и Перуном, и Велесом. Неудивительно, если вспомнить, что в родной для многих из них Скандинавии именно Один стоял на первом месте, а Тор считался лишь его сыном.
Ольга, крестившись, разрушила «требище» на теремном дворе. Никакого сопротивлении это не встретило – лишнее свидетельство того, что основная масса даже киевского люда видела в «главном» святилище просто домашнюю молельню князей. Святослав восстанавливать капище не стал – ни когда приступил к делам власти, ни даже после смерти матери. Почему? Во-первых, князь не собирался жить в Киеве, и судьба города, в том числе духовная, была ему безразлична. Во-вторых же, и это главное, Святослав, вопреки многим толкованиям, в том числе средневековым, вовсе не являлся убежденным язычником. Древнейшие источники говорят, что он отказался креститься не из-за языческой веры, а из опасения насмешек дружины. И в этом отношении Святослав в своем поколении был, кстати, даже типичен. И на Руси, и в Скандинавии кризис старой веры порождал таких людей – отважных, самозабвенных бродяг-воителей, уверенных в том, что завоюют все блага мира только своим мечом, без всякой помощи богов. На вопрос: «Во что ты веруешь?» – такие отвечали: «В самого себя».
Тем более не взялся за восстановление капища на Горе Ярополк. То ли действительно прислушивался к западным проповедникам и раздумывал над их речами, то ли, не пойдя в отца нравом, унаследовал все же его отношение к вере. Итак, на протяжении уже двух десятков лет «главным» святилищем в княжеской столице оставалось капище «скотьего бога» Велеса в Оболони. С точки зрения искреннего язычника, каким – повторим – являлся тогда Владимир, ситуация нелепая до абсурда.
Владимир, пребывая в Новгороде, познал язычество более глубокое и цельное, чем верования южных племен. Войдя в Киев, он немедленно поставил себе задачу силой новой власти создать нечто похожее для всей Руси. Но ставку князь сделал не на новгородский культ Велеса и не на «глубинные» тайны северных волхвов, а на дружинную традицию поклонения «светлому» Перуну. При этом, по ряду признаков, он взялся еще и очистить религию от мифологических излишеств, «приподнять» Перуна над миром людей, отделить его от легендарных героев-первопредков – задача почти непосильная, разве что для современных литераторов. Но в этом скрывался вызов покойной Ольге. Принятию «чужого» Бога греков Владимир попытался противопоставить возвеличение «своего» – до уподобления Ему. Зная кое-что о христианстве и интересуясь разными религиями, Владимир пытался и из язычества сделать нечто «не хуже». Можно сказать, что уже тогда он неясно для самого себя, вопреки проговариваемому, искал Бога Единого, Бога вне людских мифов и суеверий. В этом побуждении он походил на Ольгу и опять-таки подражал ей. Но, преданный старине, не мог поверить в то, что Ольга нашла Бога там, где следует.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу