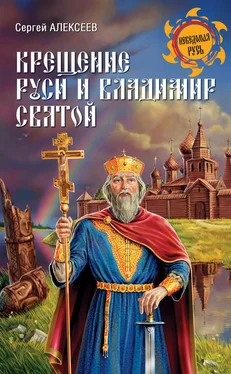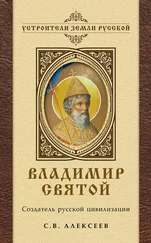Полного разрыва с Византией, однако, не случилось – ни политического, ни церковного. Владимир продолжал заботиться о развитии отношений с Восточной империей. Лучшее свидетельство тому – основание русского монастыря, Росика, на Святой горе Афон. В те годы на Руси уже возникало довольно много монастырей, основывавшихся на средства князей и бояр. Как правило, это были кельи при церквях – как, например, при киевском деревянном соборе Святой Софии, возведенном еще при Ольге. Первые русские монахи оставались уединенными отшельниками, собиравшимися лишь для молитвы, и традиции монашеского общежития, прививаемые на Афоне, оставались на Руси неизвестны.
Владимир об этом, должно быть, не задумывался – иначе завел бы иные порядки в первых киевских монастырях. Создание русского монастыря на Афоне казалось ему важным для утверждения полноценности русского христианства, равноправия Руси в христианской Вселенной, вопреки недоверию греков. С другой стороны, первые русские монахи тянулись к первоисточникам веры, желали соприкоснуться с самой землей Византии и остаться там для постижения глубин христианства. Не все хотели при этом возвращаться назад. Нельзя не отметить, что многие первые монахи сталкивались с трудностями в новокрещеных землях европейского Севера, где главным долгом мужчины издревле считалось произведение потомства. Наконец, монастырь на Афоне мог стать надежным приютом для многочисленных уже русских паломников. Год основания Росика неизвестен. В 1016 году он уже существовал. Освящен монастырь был именем Пресвятой Богородицы и получил название монастыря Богородицы Ксилурга (то есть «Древодела»). Первым игуменом монастыря стал некий Герасим.
Разрыва с Византией не происходило. Но при возникшей остуде Владимир естественным образом искал поддержки на латинском Западе. Со времен Ольги это являлось правилом русской политики. И у Владимира пока не имелось оснований этому правилу изменять. Овдовев, он, пусть и в довольно пожилые годы, готов был к новому браку и желал его. Едва ли можно осуждать за это – отказавшись во Христе от былой греховности, Владимир все же не давал монашеских обетов. Более того, безбрачие для его натуры могло бы явиться излишним, действительно опасным искушением. И второй христианский брак был заключен. Не исключено, что как раз на Западе.
В немецких генеалогиях XII века говорится о том, что некая внучка императора Оттона I Великого, дочь графа Куно фон Энингена, стала женой «короля ругов». Издавна в науке принято считать, что имеется в виду не вождь славян с острова Рюген, а именно русский «король». Также принято считать, что королем этим был Владимир. Но мы уже упоминали о другой гипотезе. Высказывается мнение о том, что «король» – не Владимир, а Ярополк и речь будто бы не о состоявшемся браке, а о невыполненном брачном договоре. Дополнительные проблемы заключаются в том, что Куно почти неизвестен по другим источникам. Недавно его удалось отождествить с герцогом Конрадом Швабским, но тот, кажется, не был зятем Оттона I. Ясно одно – в источнике все-таки говорится именно о браке с «королем», а ни о каком реальном браке немки с язычником и многоженцем Ярополком вопрос не стоит. Так что если речь о Руси, то думать надо все же о Владимире. Одни исследователи полагают, что это вызывает хронологические трудности. Другие – что не вызывает. Кто бы ни была новая жена Владимира, союз с ней оказался достаточно счастливым, чтобы принести потомство. От этого последнего брака у князя родилась дочь Добронега, в крещении названная Марией.
Неясно, заключал ли Владимир брачный союз с Германией, но ближайшим западным соседям он в первые же годы по смерти Анны уделял особое внимание. Князь нуждался в надежном мире на Западе, а значит, и в дружеских связях со всеми доступными странами латинского мира. И первой на очереди стояла Польша Болеслава Мешковича.
Болеслав во многом походил на Владимира в молодые годы. Подобно ему, он не был обделен ни заслуженной любовью подданных, ни полководческими талантами, ни даром устроителя своей земли. Подобно русскому князю, он мечтал сделать свое княжение центром всего славянского мира и упорно боролся за воссоединение под своим скипетром западнославянских земель. Борьба была небезуспешна – временами Болеслав распространял свою власть даже на Чехию. В этой схожести, конечно, содержался и явный залог будущей вражды. Тем паче что Болеслав, в отличие от Владимира, войну любил и не боялся войн между христианами. С христианами – чехами и немцами – он воевал едва ли не чаще, чем с северными язычниками. И нередко войну начинал сам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу