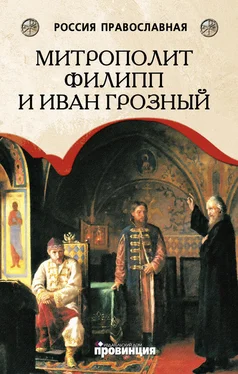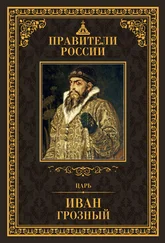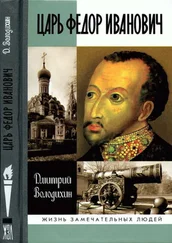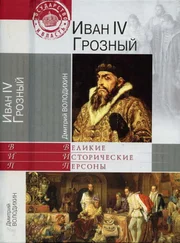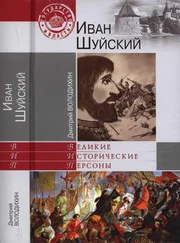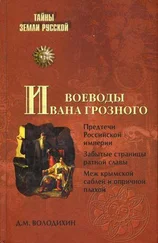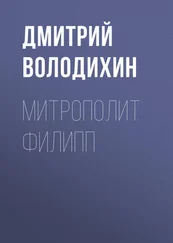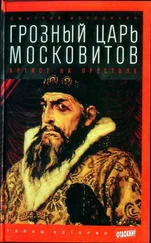Ему посчастливилось найти доброго человека, давшего жилье и работу. Им стал некий Сидор (Исидор) Субота, житель прионежской деревни Кижа, или Марковская. Землеописания XVI века полностью подтверждают это сообщение Жития. Действительно, у северного побережья Онежского озера стоял Спасский, погост в Кижах. Еще в 1560-х годах там жил черносошный крестьянин Сидорка Степанов, по прозвищу Субота. Очевидно, именно он приютил измученного Колычева.
Субота доверил своему тезке по отчеству пасти овец. И Федор Степанович не погнушался принять от своего тезки по отчеству столь простую работу, работу бедняка. Там, в Москве, знатный человек Федор Колычев, быть может, и не заметил бы скромного крестьянина с севера. Здесь, у Онеги, этот крестьянин играет роль сущего благодетеля, вероятно, спасшего исхудалого странника от голодной смерти. Будущий митрополит принял новый для себя труд со смирением. Таков был первый большой урок его монашеского пути: он поклонился человеку низкого звания, и через простого крестьянина Бог дал ему хлеб насущный. Надо ли добавлять, что Федору Степановичу, привыкшему жить на всем готовом, прежде следовало побороть дворянскую гордыню, а уж потом он набрался нравственных сил и отвесил низкий поклон простолюдину?
Неизвестно, как долго пастушествовал на Онежском озере молодой Колычев. Преосвященный Леонид считает, что он начал свое путешествие на север в июне, а закончил его на Соловках не позднее октября 1537 года, поскольку в дальнейшем погодные условия просто не позволили бы переправиться на острова. Таким образом, на все путешествие ушло около четырех месяцев. Сколько же он провел в пастухах у Сидора Суботы? Если судить по этим подсчетам, выйдет всего ничего: даже несколько недель… Закрадывается сомнение: а обратил бы составитель Жития внимание на столь незначительный эпизод в жизни святого Филиппа? Впрочем, может быть, и обратил бы – из-за красивой аналогии между ролью пастуха, каковую играл Федор Степанович Колычев, и ролью пастыря, каковую сыграет митрополит Филипп.
Но возможен и другой вариант: в 1537 году он просто не попал на Соловки. Да и способен ли столь неопытный странник, как Федор Степанович Колычев, да еще безо всяких запасов, пересечь страну в указанный срок, поработав между делом у зажиточного крестьянина…
Поднабравшись сил и, возможно, получив деньги на уплату переправы по морю, Федор Степанович добрался, наконец, до цели своего странствия. Но в каком году это произошло – в 1537-м или 1538-м, определить невозможно.
Чем встретили долгожданные острова бывшего аристократа, до смерти уставшего от бесконечного путешествия и горького нищенства?
В 30-х годах XVI столетия Соловецкая обитель ничем – в самом буквальном смысле! – не напоминала современный архитектурный комплекс, величественный и прекрасный. Более того, есть все основания предполагать, что Федор Степанович, сойдя на берег, увидел груду головешек и выкопанные наспех землянки – недавно обитель пострадала от большого пожара.
А увидев, – счастливо улыбнулся. Какое ему дело – каменные палаты, добротные избы, землянки, пещера или дупло в старом дубе! Новому Колычеву было абсолютно всё равно, в каких условиях жить. Он прибыл куда хотел. Он был доволен. Вторая жизнь дышала прохладным ветерком в прорехи на изношенной одежде. Странник зябко поводил плечами.
Здесь ему предстояло провести три десятилетия.
Первые монахи – преподобные Савватий и Герман – появились на островах за столетие до того, в 20-х годах XV века. Святой Савватий принадлежал духовной школе преподобного Кирилла Белозерского, его присутствие у истоков обители протянуло нить между беломорскими «незнаемыми» местами и высокой иноческой культурой коренной Руси.
В непролазной чаще выросли келейки, поднялся деревянный крест. Озера давали пресную воду, леса – ягоды и коренья, море кормило рыбой. Хлеба тут при первых монахах просто не было, да и позднее с зерном бывали перебои. Огородничество на Соловках получило широкое распространение, но попытки завести пашню, посеять хлеб не привели к успеху. Пашню быстро забрасывали из-за того, что хлеб не вызревал. А вот рыбы – всегда вдоволь. Да и скотину разводили – в основном ради молока и шерсти. Еще били нерпу и выделывали нерпичью кожу… С поздней осени до середины весны архипелаг отделен от материка подвижными льдами; трещат морозы, снега наметает во множестве. До Кеми, где располагается ближайшая гавань, около 60 верст. Летом насельников одолевает злой соловецкий комар. Ветры вечно стоят над островами, словно десница Господня крутит ручку машины, испускающей воздушные потоки…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу