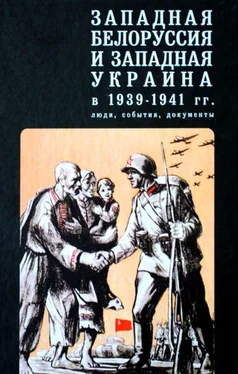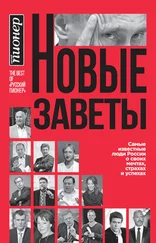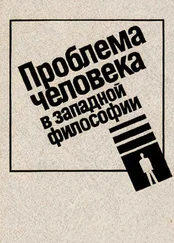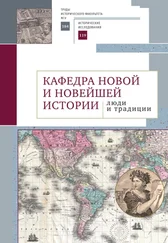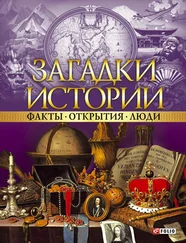Об особом пристрастии советских солдат и офицеров к наручным часам неоднократно упоминается не только в письменных свидетельствах («покупали по пять, по десять часов», «покупали часы, велосипеды, разные ткани и другие дорогие вещи»), но также в парабеллетристике и даже художественной литературе. «Часы на руке в советском обществе не только редкий экземпляр, но также доказательство культуры, а, следовательно, и предмет гордости, — пишет Т. Виттлин. — <���…> Такие часы, как правило, носят сверху, на рукаве рубашки, а военные, которые носят суконные гимнастерки, надевают их на манжет кителя. Чтобы уже каждый издалека мог заметить и с должным уважением обращаться с таким высоко цивилизованным гражданином». («Zegarek na ręku jest w sowieckim państwie nie tylko rzadkim okazem, lecz również dowodein kultury, a więc I przedmiotem dumy. <���…> Zegarek taki, noszony jest z zasady na wierzchu, na rękawie koszuli, a wojskowi, umundurowani wsukienne bluzy, zakladają go na mankiet munduru. Żeby każdy już z dala mógł dostrzec i z należytym szacunkiem odnieść się do tak wysoce cywilizowanego obywatela») [459].
«Я смеялась над их любовью к часам, — отмечает в своих воспоминаниях Барбара Скарга, которая провела в советских лагерях десять послевоенных лет. — Спрашивала, носят ли они тоже под рукавами кителей целые их коллекции, как это делали солдаты». («Śmiatam się z ich mitości do zegarkow, pytalam czy pod rękawami mundurów tez noszą ich cate kolekcje, jak to czynili żołnierze»).
С большим участием относилась к людям, ощущавшим в своей стране нехватку продовольствия и необходимых товаров, польская молодежь. При этом в свидетельствах подростков оставалось место для искреннего недоумения и легкой иронии по поводу комичных ситуаций или даже попытки сопоставить (на бытовом уровне) разные проявления национального менталитета. Вот один из красноречивых примеров.
«Приходят в магазин, спрашивают, можно ли купить хотя бы 100 граммов колбасы. Можно, почему бы и нет? А полкило можно? Можно и пять килограммов. Ну, тогда дайте нам по 10 килограммов. Колбасу повесили на шею, потому что все было забито булками, даже шапки. На улицах валялись булки, их покупали сотнями, а когда уставали нести, то просто выбрасывали». («Przychodzą do sklepu pytają się czy mozna dostać chociaż 100 gram kielbasy, mozna, czemu nie, a pol kilograma można, można nawet i pięć kilogramow. О to dajcie nam po 10 kg., kielbasę tą pozakladali na syję bo juz wszystko mieli pozapakowywane bulkami nawet i czapke. Ulice były po zazucane bulkami bo kupowali setkami bulek, a potem jak się zinęczyl ciężko mu bylo nieść to wysypywal»).
Осознаваемое поляками культурное различие наиболее ярко выступает в художественных текстах, авторами которых были известные писатели с уже сложившимися до войны представлениями о Советской России. В их описаниях новой реальности присутствует явное стремление к самоидентификации, переживание своей польскости. К примеру, у Т. Виттлина читаем: «два майора с интересом осматривали термос. Один из них честно признался, что был уверен, что это часовая мина <���…> Кто-то притащил продавать диван с постелью в автоматически открывающемся ящике. Капитан авиации <���…> засомневался в том, что во время сна в ящике на этой постели защелки на пружинах ночью не захлопнутся и человек не задохнется. Продавец объяснял, что <���…> спят наверху, на матраце. Летчик не верил, и говорил, что если бы это была правда, то матрац не был бы обтянут таким красивым материалом», («dwaj majorowie z zaciekawieniem oglqdali termos. Jeden z nich szczerze wyznat, iż byl przekonany, że to zegarowa bomba <���…>. Ktoś przytaskal na sprzedaż tapczan z poscielą, wewnątrz otwieranego automatycznie pudła Kapitan-lotnik <���…> wyraził wątpliwość, czy w czasie snu w pudle na pościeli, sprążynowe zawiasy w nocy nie zatrzasną się i czlowiek się nie udusi. Sprzedawca wyjaśnial, że <���…> sypia się na wierzchu, na materacu. Lotnik nie wierzyl, odpierając, że gdyby to byla prawda, to materac nie bylby pokryty taką ladną materią»).
Соподчинялись целому и мнения поляков о безвкусице «москалей», в особенности, представителей советской аристократии, отсутствии у них чувства меры и стиля, их невосприимчивости к эстетике повседневной жизни. Это ощущение полного недостатка вкуса в чужой среде накладывало печать бедности даже на то, что по тогдашним меркам считалось в России роскошью, соответствующей стандартам советской культуры. «В конце рынка остановился современный шикарный лимузин, из которого вышли три женщины, вероятно, жены начальников, владельцев машин. <���…> Въехали на рынок с шумом, с которым в западноевропейских столицах жены министров подъезжают к магазинам мод. <���…> Одна из них купила шляпку — зеленый колпак с красным крылом <���…>. Свою покупку она держала в руке, не решаясь <���…> надеть на голову. <���…> Не потому, что эта шляпка была ужасна, ведь понравилась, если купила, просто наверняка это была ее первая в жизни шляпка». («Na skraju rynku zatrzymała się nowoczesna, luksusowa limuzyna, z której wysiadły trzy kobiety, prawdopodobnie małżonki dygnitarzy, dysponujących tym wozem. <���…> Zajechały na rynek z szumem, z jakim w zachodnioeuropejskich stolicach żony ministrów zajezdzają przed magazyny mód. <���…> jedna kupila kapelusz — zielony kołpak z czerwonym skrzydlem <���…>. Sprawunek swój trzymala w ręku, nie mając odwagi <���…> wlożyć na głowę. <���…> Nie dlatego że by1 okropny, podobal się jej przecież, skoro go kupiła, lecz że niecliybnie był to jej pierwszy kapelusz w życiu») [460].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу