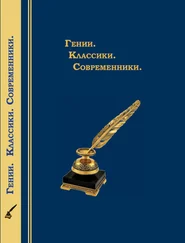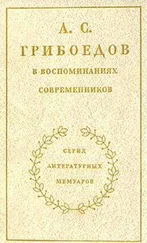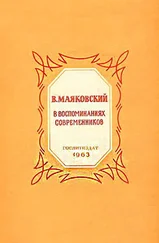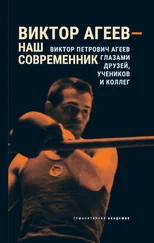Православное духовенство и небольшой кружок русских чиновников, вот те препятствия, которые встречали колонизаторы Западного края. Мы уже говорили однажды о том, какое влияние на ополячивание чиновничества имели пятиклассные дворянские уездные училища, учреждение которых так нравилось местному польскому дворянству. Число русских чиновников с каждым годом уменьшалось. Что же касается до православного духовенства, которое в помещаемой ниже прокламации к нему польского революционного комитета подвергается упреку в любостяжании и в подкупе со стороны «московского правительства», то оно живет со своими семействами на жалование в несколько раз меньше того, которое дается от правительства же безбрачным католическим ксендзам. Неравенство положения усиливается еще тем, что ксендзы опираются, сверх жалования, на поддержку своих богатых прихожан помещиков, а православные священники получают лишь небольшие крохи от крестьян, разоренных и изморенных панами. Единственная серьезная поддержка православному духовенству заключалась в устройстве и улучшении около двухсот народных школ пособиями со стороны Министерства народного просвещения. В Виленском учебном округе это пособие было употреблено гораздо справедливее, чем в Киевском округе, где оно превратилось в средство конкуренции (на казенный счет) с приходскими школами, заведенными духовенством. Такого странного и прискорбного антагонизма, к счастью, не было в Виленском учебном округе, и казенное пособие не воспрепятствовало, а помогло духовенству в трудах его по обучению народа. Сверх того, возникла мысль об учреждении приходских братств, или лучше сказать, о восстановлении этого древнего учреждения православия, боровшегося с латинством; проект устройства братств представлен в Петербург несколько месяцев тому назад.
Доверенные лица, сообщающие нам теперь из Вильна сведения о состоянии Западного края, доставили нам перевод двух прокламаций, в которых обращалось польское революционное правительство к православному духовенству. Одна из этих прокламаций издана в Вильне 18-го апреля виленским революционным комитетом; на другой не означено, где она издана, но она была распространена в Западном крае несколькими неделями после первой и, по-видимому, идет от варшавского центрального комитета. Читатели найдут ниже доставленный нам перевод этих двух документов, получающих особенный интерес от сопоставления их. Какие-нибудь две или три недели разделяют эти документы один от другого, а как изменился тон во второй прокламации! Первая прокламация гарантировала свободу вероисповеданий и уверяла право -славное духовенство, будто «свобода совести была исконно свойственна польскому правительству (!!!) и сроднилась в Польше с народными нравами». Эта прокламация ограничивалась угрозами за верность русскому правительству, то есть за политический образ действий. «Борьба с нашествием, - говорила эта прокламация, не есть борьба религиозная, это - борьба за свободу, война народная». Это была личина, взятая довольно ловко: но как скоро сорвала с себя эту личину польская революция! Не прошло двух-трех недель, как властолюбие ксендзов прорвалось наружу. В начале мая появилась вторая прокламация, которая носит на себе все признаки акта, прошедшего через руки католического духовенства. Она начинается призванием Св. Троицы, она оканчивается словом «Аминь». Что же возвещает православному духовенству эта вторая прокламация, так нетерпеливо вырвавшаяся на свет Божий? Она возвещает восстановление Унии, она возвещает православным священникам, что настала минута мести за их преступления и казни за их грехи. В оправдание этих угроз она ссылается на царский гнев и царские казни, которыми будто бы было вынуждено восприсоединение униатов к православию, и упоминает о странствующей монахине Макрине, которой рассказы были изобличены в неправде уже почти двадцать лет тому назад, когда она только что прибыла в Рим. Но лживы или нет были показания этой странницы, несомненно то, что вторая прокламация самым ясным образом уличает первую прокламацию в лживости или по крайней мере удостоверяет, что польским революционным прокламациям никто ни в чем не должен верить. Спрашиваем, можно ли надеяться на успех при таком образе действий?
Как польские революционеры обманывали православное духовенство обещанием свободы исповеданий, так точно обманывали они крестьян обещанием дарового надела земли и освобождения от повинностей в пользу помещика. Из всего Западного края восстание имело наиболее успеха в Ковенской губернии, на которую революционеры обратили особенное внимание, конечно, потому, что она ближе к морю. В Ковенской губернии гораздо меньше поляков не только, чем в губернии Гродненской и Виленской, но даже меньше чем в Могилевской и Киевской. Вот цифры из статистической книжки г. Бушена, вышедшей в прошлом году. Поляков приходится:
Читать дальше