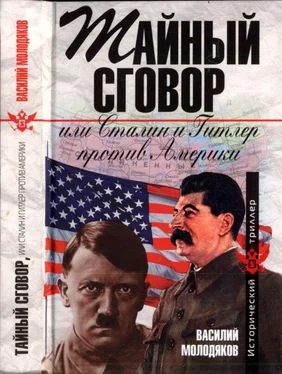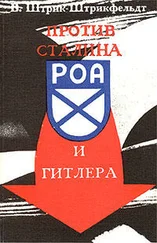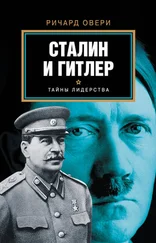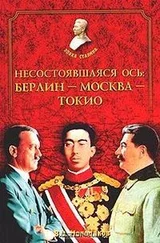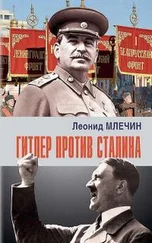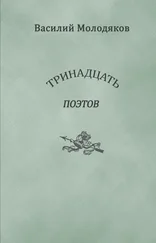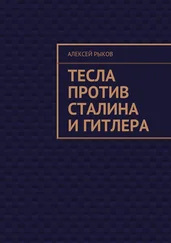«Человек по имени Сиратори сделал должность spokesman'а МИД Японии знаменитой», — писал в 1934 г. американский аналитик Э. Клоз (1). Раньше имя шефа Департамента информации знали только журналисты. Сиратори стал первым, чья фамилия замелькала на страницах японских и иностранных газет и дипломатических депеш. Дело не только в том, что на время его пребывания в должности пришлись «Маньчжурский инцидент» и выход Японии из Лиги Наций. Дело было в человеке, занимавшем должность.
Главной обязанностью начальника Департамента были пресс-конференции для японских и иностранных корреспондентов, проводившиеся порознь. Редактор выходившей в Токио американской газеты «Japan Advertiser» В. Флейшер вспоминал: «Встречи Сиратори с журналистами проходили ежедневно и порой порождали такие сенсации, что ни один иностранный корреспондент не мог позволить себе пропустить хотя бы одну из них. Он давал оценку новостям лучше, чем любой японский чиновник, которого я когда-либо встречал» (2).
Сиратори отличался исключительной информированностью — не только об уже случившемся, но и о том, что только готовится, — непривычными для чиновника свободой мнений, открытостью в общении с иностранцами и постоянной готовностью поделиться «по-дружески» конфиденциальной информацией. Природная раскованность характера сочеталась у него с умением владеть ситуацией и просчитывать свои и чужие действия, а амбициозность и стремление к популярности соседствовали с умением выбирать друзей. В сочетании с хорошим знанием английского все это делало его привлекательным для журналистов, любивших встречаться с ним не только на службе, но и в непринужденной обстановке европейских и традиционных японских ресторанов. С иностранцами Сиратори вел себя «по-европейски», если не «по-американски», и уж по крайней мере не «по-японски». У него всегда можно было узнать свежие новости, которых еще не было, а может, и не должно было быть в газетах. Его прогнозы, как правило, сбывались, а налет конфиденциальности (возможно, не всегда оправданный) и критические высказывания в адрес начальства делали его сведения и суждения еще более привлекательными. Сиратори отличался виртуозным умением сообщать новости «по секрету всему свету», так что каждый собеседник чувствовал себя лично облагодетельствованным и дорожил его расположением.
Откровенность его замечаний и комментариев не была проявлением легкомыслия или безответственности, как могло показаться. Трудно сказать, насколько поведение Сиратори определялось личными амбициями и честолюбием, но на известность, которую он приобрел во время «Маньчжурского инцидента», в обычное время ему рассчитывать не приходилось. В условиях строгой иерархичности и формального чинопочитания никто не мог получить больше, чем полагалось по должности и возрасту. Внимание иностранных журналистов и дипломатов и появление его фамилии на страницах крупнейших газет мира льстили самолюбию Сиратори и подчеркивали его значимость в японской политике.
Однако нельзя сказать, что деятельность Сиратори диктовалась одними только амбициями, в жертву которым приносилось все прочее, включая престиж министерства. Для журналистов он был «лицом» МИД не в меньшей степени, чем сам министр. Естественно, ему приходилось сообщать и комментировать новости и сюжеты, не всегда приятные для Японии, а газетчики не упускали случая подбросить какой-нибудь провокационный вопрос. У нашего героя был свой стиль поведения в таких ситуациях: он отвечал быстро, остроумно, избегал шаблонных фраз и охотно прибегал к разного рода аналогиям, метафорам, даже притчам. Он нередко подбрасывал слушателям те или иные важные новости, не имевшие непосредственного отношения к теме разговора, чтобы отвлечь их внимание от малоприятной темы. «Это была одна из его самых эффективных стратагем как spokesman'а», — свидетельствует Флейшер.
Один из его ответов вошел в поговорку. Японское правительство по ряду причин не спешило признавать de jure независимость своего «детища» Маньчжоу-го, а американские журналисты, настроенные в основном антияпонски, донимали представителей правительства и МИД провокационными вопросами об этом. 31 марта 1932 г., выслушав такой вопрос в очередной раз, Сиратори не прибег к дежурным отговоркам, а невозмутимо ответил: «Мы не спешим — нам не надо строить там канал», напомнив известный факт признания Соединенными Штатами «независимости» Панамы на третьи сутки после ее провозглашения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу