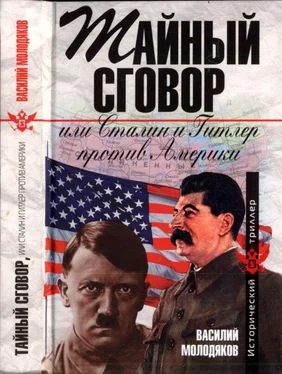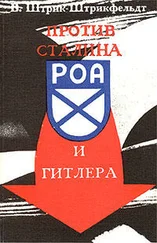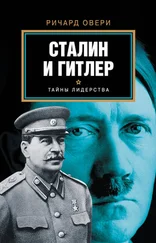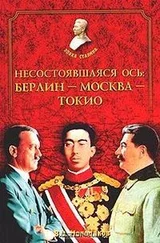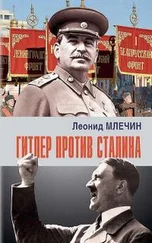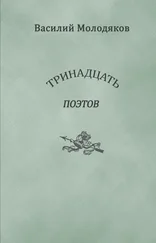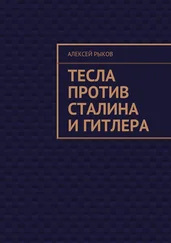1 ...7 8 9 11 12 13 ...131 Было и другое — многолетнее участие в социал-демократическом движении (правда, среди меньшевиков), политическая эмиграция, неоднократные аресты и высылки, дружба с Карлом Либкнехтом, тесные связи с французскими и британскими социалистическими кругами. Несмотря на все это, партийный стаж ему записали только с 1918 г., с момента формального вступления в большевистскую партию, хотя у некоторых он исчислялся аж с 1893 г. (!), когда Ленин еще не создал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».
Он никогда не был в Кремле «своим». Политбюро, принимавшее решения по ключевым международным вопросам, интересовалось суждениями наркома лишь как «информацией к размышлению», но не как мнением равного. Искренне веря в правоту своего дела и в то же время дорожа постом министра иностранных дел России — как бы он ни назывался в конкретных исторических обстоятельствах, Георгий Васильевич всеми силами проводил партийную линию, пытаясь приспособить ее к международным реалиям и общепринятой дипломатической практике. А это удавалось далеко не всегда.
Недруги упрекали Чичерина в трусости, слабохарактерности, заискивании перед Сталиным. Нарком, смолоду не отличавшийся крепким здоровьем (колит, диабет и полиневрит) и имевший слабые нервы, страдал от многочисленных психологических стрессов, которые переживал от постоянных склок внутри своего ведомства и от сознания двусмысленности и непрочности своего положения внутри большевистской элиты. Тем не менее он, видимо, хорошо знал, чего боялся.
3 февраля 1923 г., еще при жизни благоволившего к нему Ленина, Чичерин писал своему единомышленнику Льву Карахану, в то время члену коллегий НКИД: «Многоуважаемый Лев Михайлович, я могу якобы попасть под автомобиль или якобы упасть с лестницы — ко мне будет ходить врач, потом можно будет сказать, что организм не вынес, — и назначить меня в Госиздат в коллегию или на маленькую должность в НКПрос (Народный комиссариат просвещения. — В.М. ). Пожалуйста, поддержите при разговорах со Сталиным (считалось, что Карахан лично близок к Сталину и имеет на него влияние. — В.М. ). Где мне можно будет поселиться? Вам, м(ожет) б(ыть), известна какая-нибудь семья (Чичерин всю жизнь жил один. — В.М. )? Это будет дешевле. Сколько получают члены коллегии Госиздата? Я буду Вам очень благодарен, если Вы отзоветесь. С коммунистическим приветом Георгий Чичерин» (1). Понятно, что это написано в состоянии депрессии. Но дыма без огня не бывает.
Для полноты картины и соблюдения логики изложения здесь необходимо коротко сказать о том, как в двадцатые годы вырабатывалась и проводилась советская внешняя политика, какие тенденции и направления в ней боролись — несмотря на публичные уверения в ее незыблемом единстве — и что творилось внутри Наркоминдела.
Выработка внешнеполитической стратегии была монополией «Инстанции», т. е. Политбюро, поэтому курс советской дипломатии колебался вместе с «генеральной линией» партии. Классический пример — отношение к революционному движению в Германии и в Китае. Важные международные вопросы решались в комиссиях и исполкоме Коминтерна, куда входили многие члены Политбюро и партийные идеологи. Наркомату оставались рутинная работа и легальный сбор информации. К мнению дипломатов в Кремле прислушивались редко. Ни Чичерин, ни его преемник Литвинов не входили в «Инстанцию», а только вызывались на ее заседания по мере надобности. Тем не менее в повседневной работе от Наркоминдела зависело многое. Тон, которым нарком разговаривал с иностранными послами в Москве, а полпреды — с министрами иностранных дел в других столицах, политики, конечно, не делал, но на «погоду» в международных отношениях, несомненно, влиял.
В двадцатые годы НКИД четко разделился на «чичеринцев» и «литвиновцев», которые соотносятся с евразийской и атлантистской ориентациями в геополитике. Чичерин приложил руку к подготовке ратификации «похабного», но необходимого в конкретных условиях Брестского мира, гордился Рапалльским договором с Германией и дружественными отношениями с кемалистской Турцией, Персией, Афганистаном, Монголией и Китаем, считая это направление политики наиболее перспективным как для укрепления позиций СССР — не в последнюю очередь путем ослабления влияния Великобритании, так и для возможного расширения мировой революции, в которую он долгое время верил. Или, по крайней мере, хотел верить. Он также придавал большое значение отношениям с ближайшими западными соседями, странами созданного Антантой «санитарного кордона» — Финляндией, Польшей, прибалтийскими республиками, Румынией, позиция которых в отношении России, для многих — бывшей метрополии, была, как правило, откровенно недружественной. «Наши ближайшие соседи с запада, — говорил Чичерин на II сессии ЦИК СССР 18 октября 1924 г., — всегда являлись объектом воздействия западной дипломатии, ведшей против нас враждебную линию… Мы надеемся, что балтийские государства поймут, что в их же интересах не входить в орбиту западных держав и не участвовать в плане нашего оцепления. Мы знаем, что наиболее дальновидным политикам балтийских государств эта игра справедливо представляется опасной».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу