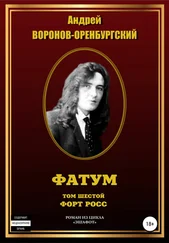– Ты чо? Чо задумал, Черёмушкин? – заикаясь, клацая зубами, прохрипел Буренков, не отрывая сосредоточенных глаз от солдата, который, держа в горсти, набожно целовал нательный крест. Христос на тёмном распятии, казался длинной серебряной каплей, стекавшей к подножию. Невидимой преградой, состоявшей из дыхания, сердечных биений и горячих молитвенных мыслей, Черёма заслонял и матерью надетый на его шею крест, и свою православную веру от грубых, разрушительных слов Григорича, и те, как колючие репьи, отскакикавили и падали в стороне у его ухлюстанных багровой грязью сапог.
– Да ты…никак из поповичей, паря? Как же эта, Черёмушкин? Ты ж комсомолец, понимаш! В партею, вроде мылился вместе с Чугиным, ась? Чо молчишь булыгой? Раньше болтал, как радио, хрен отключишь. Всё было понятно: что и почему…А теперь, понимаешь – могила? Эй, эй, со мной так нельзя, со мной так не надо! Ят знаю, ты политически грамотный, подкованный на все четыре копыта, но со мной так не моги-и…
– А ты, что особенный что ли, Буренков? Как ариец, высшего сорта? – слабо усмехнулся Черёма. – Так это, дядя…в тебе значит буржуазный национализм проклюнулся.
– Эт, хто «проклюкнулся»? Где? У ковось??! Ты…эта! Эта-а!! Ты, чойт болташ, охальник! – Григорич не на шутку обеспокоенный «непонятками», заёрзал на ящике, будто на сковородке. – Ишь ты…Шибко грамотный, да? Тебя, похоже, матка в детстве о печь башкой шмякнула? Ну, прости на слове! Ты эта…Эта-а…только не молчи, студент! Думаш, Буренков ни черта не понимат? Думаш, у меня сердца нет?! Да в него, ежли хошь знать, – он с силой хлопнул себя грязной пятернёй по груди, – те же осколки попали, чойт и в нашего взводного Замотохина…и в Куца…Жаль, конечно, робят…Молодые шибко, как и ты…жизни ещё не видели. Ну чойт, ты, крест-то целуешь, как бабу? Да будя, будя…Чойт тебе дал твой Христос, понимаш? Даже сержантом не сделал! – злорадно хрюкнул Григорич, алея двойным подбородком, обнажая мелкие частые зубы. – Христос принял смерть за людей…И люди ему благодарны…Жертвуют собой за Христа…
– Ну ты газанул, Черёма! А за Родину, значитца – хрен?.. – силясь перекричать волчий вой мин и оглушительных разрывов, взвился Буренков. – Ишь ты-ы…добро тебе промыли мозги поповичи-недобитки, ничего не скажешь. «Жертвуют собой за Христа, говоришь?» Хаа! За того, кого нет, понимаш! За дырку от бублика, понимаш! Ну, ят погляжу, как ты, студент, буш жертвовать собой в бою за товарища Сталина…Фрицы того и гляди атакуют. Так и знай, попович, глаз с тебя не спущу! Буренков пуще набычился, но вдруг испытал дрожание рук, кое начиналось у него в момент наивысшего раздражения, после полученной им недавней контузии. – Ох, присмотреться к тебя надо, Черёмушкин. Могёть и песни тебе советские поперёк горла, ась? Вот сдам тебя в комендатуру, студент…Тебе зараз мозги проветрют. Там не то, что офицеры, генералы плачут, как дети.
– Хороший ты дядька, Григорич, но дурак. Мышление у тебя ограничено. Я ж не о том, честное слово…– без злобы-ожесточённости ответил Черёма. И вдруг, ясно глядя на своего мучителя, с тихой открытостью сказал:
– Худо мне, страшно, Григорич. Веришь? Будто вся жизнь пролетает перед глазами. Словно – конец…Маму вот часто вижу…Стоит у ворот родная, прижимает к груди закутанную в полу сестрёнку, а ветер треплет, крутит на плечах её концы малинового платка…
Набрякший подозрением Григорич, обмяк, сдулся, как грелка: ровно тронул Черёмушкин его незарубцованную болячку.
– Так-то оно так, Черёмушкин… – он буркнул себе под нос, жмуря глаза от мерцавших ослепительных вспышек плотно ложившихся снарядов, что превращали каждую пылинку и волос в слепящую плазму, оплавляя в жидкое стекло бетонные стены, кирпичи и асфальт. Наружу из тёмных сот многоэтажек – вырывались жаркие, тугие хлопки, ревущее языкастое пламя. И всякий раз после разрывов, над серпантином траншей крепко припахивало душным паром огромного мясного котла.
– Смерть-чёртова сволочь… – снова беспокойно хрюкнул Григорич. – Она баба лютая, неподкупная….уважения требоват…Думаешь, я её боюсь? Ещё как! Извини, подвинься….Ан дело тут обоюдоострое, паря. Смертушка…она, ведь, Черёмушкин, с другой стороны – ласковая паскуда. Помрёшь – отдохнёшь, от всего этого ужаса. Смерть всех усмирит, всех успокоит: и героя и труса, и слабого, и сильного. Ничего чувствовать-ощущать не будешь окромя покоя. Главное чоб не мучаться – бац и всё тут. Вечная тьма и сон.
Оба молчали замкнутые, прибитые очередным бомбовым ударом. Чёрные кистепёрые, тупорылые болванки сыпались на плацдарм из распахнутых днищ манёвренных бомбардировщиков Junkers Ju 88, как наколотые поленья из кузовов огромных самосвалов. «Юнкерсов» прикрывали звенья стремительных, вёртких «мессеров», подавляя огонь зинитчиков своими внезапными хищническими атаками.
Читать дальше