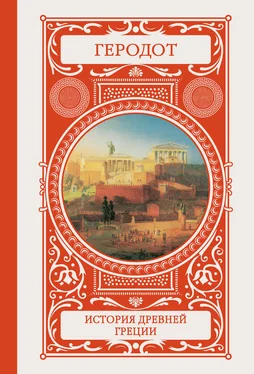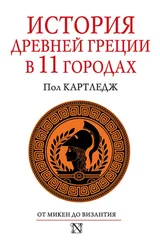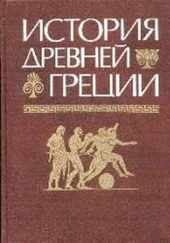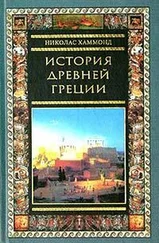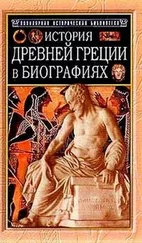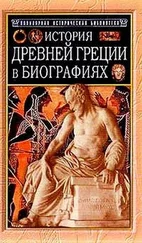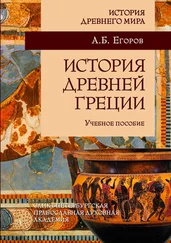Мы не видим, наконец, ни нужды, ни основания настаивать на том, будто Геродот пользовался для своих литературных целей услугами только профессиональных проводников, или cicerone, таким путем добывавших себе кусок хлеба; но и это обстоятельство нужно критику для того, чтобы умалить достоинство известий Геродота. Из того, что проводниками нашего историка в Египте были несведущие переводчики, вовсе еще не следует, что и во всех других местностях он не имел свидетелей более надежных.
Сэйс гораздо основательнее, когда содержащиеся в труде Геродота речи считает недействительными, сочиненными с целью морализации на излюбленные автором темы и иногда приуроченными к событиям вымышленным. Так, несогласными с действительностью он признает речи трех персидских вельмож, произнесенные по низвержении мага в Персии (III, 80–82), относительно речей Солона Крезу справедливо указывает на хронологическую несообразность: путешествие Солона относится к тому времени, когда Крез не был еще царем Лидии. Число подобных примеров можно было бы значительно увеличить. Достаточно напомнить, что Геродот несколько раз влагает в уста Креза, мидян и персов чисто эллинские сентенции (I, 207, 118, 120, 124, 204, 210; III, 80–82; VII, 10, 18, 46–50; IX, 16). Однако и здесь критик забывает, что манера Геродота не составляла исключительно его принадлежности. В требованиях публики, воспитанной на эпических образцах и вообще в высокой степени одаренной художественными вкусами, следует искать настоящего объяснения той особенности древнеэллинской историографии, которая была бы безусловно осуждена в строго историческом сочинении любого современного нам писателя. У нас вовсе нет данных, свидетельствующих о введении речей в историческое изложение предшественниками Геродота, и мы скорее склонны думать, что сухое, отрывочное, слишком деловое повествование их, образцы которого можно видеть в уцелевших фрагментах их сочинений, было лишено этого существенного элемента истории Геродота, Фукидида и позднейших историков, важнейшего художественного украшения трудов их. Таким образом, присутствие речей и диалогов в трудах Геродота и других историков служит новым подтверждением нашего воззрения на зависимость древнеэллинской прозы от поэзии. Зависимость эта составляет явление сравнительно позднее в литературе эллинов; она обнаружилась в то время, когда прозаическое изложение вышло из зародышевого состояния и стало способным к усвоению успехов, достигнутых раньше поэтической речью. Для нас весьма знаменательно то, что сознательное стремление Фукидида к исторической истине, которым он сам отличал себя от предшественников, не удерживало его от внесения в свой труд множества речей, составленных самим автором согласно правилам риторического искусства, а не исторической правды. Правда, между речами Геродота и Фукидида есть большая разница, определяемая различием целей того и другого историка; тем не менее в основании речей обоих писателей лежит одинаковая тенденция – оживить прозаическое изложение эпизодами поэтическо-драматического свойства, к каковым публика привыкла со времени Гомера и каковыми она восхищалась на городской площади и в театре. Но и здесь мы, кажется, не погрешим против истины, если долю сочинительства Геродота ограничим известными пределами: получаемые им известия драматизировались нередко в устах самих свидетелей, каковая особенность характеризует изложение на невысокой степени развития вообще. Геродоту оставалось облечь эту часть показаний в литературную форму и, быть может, усилить, ярче оттенить намеченную в них тенденцию всего повествования Геродота. Распределить в точности, что́ в подобных речах принадлежит говорящему лицу, что́ свидетелям историка и наконец самому историку, для этого нет у нас достаточно средств.
С большей справедливостью критик обращает внимание на то, что «отец истории» внес некоторые легенды в свое повествование или предпочел известные варианты сказаний не потому, что он слышал их от очевидцев, а просто потому, что они согласовались с его философским настроением, свидетельствовали о непрочности всего земного или же подвергали сомнению известия предшественников. «Так, из различных сказаний о рождении и воспитании Кира он предпочтительно выбрал чистейшую басню, а простонародные рассказы выдал за египетскую историю… Рассказ о фениксе, составляющий плагиат из Гекатея, служит убедительным доказательством того, как мало он заботился о подлинной очевидности, с какой легкостью принимал подходящую к его вкусам легенду и за достоверность чужого известия брал ответственность на себя».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу