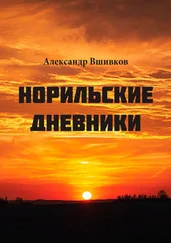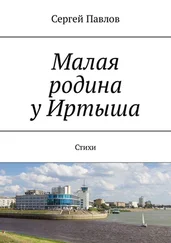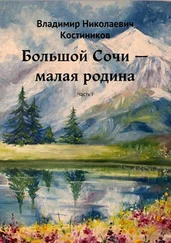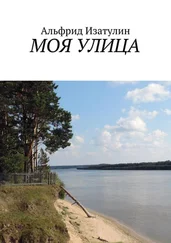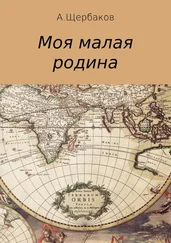Присоединение к Москве для новгородских волостей значило не только перемену подданства, но и коренную ломку всего политического и экономического уклада жизни. Прежнее выборное самоуправление заменялось бюрократическим аппаратом, который руководствовался несложной Инструкцией.
Во главе уезда назначался великокняжеский наместник [2](тиун), а во главе волости – волостель [3]. При наместнике, тиуне, волостеле состояли дьяки, ведавшие делопроизводством, и недельщики [4], судебные приставы, исполнявшие разные поручения по приговору суда. Выборное начало ограничивалось выборами «дворских старост», «соцких и десятских», служивших для разных поручений волостелей и наместников.
Чиновники не получали определенного жалованья. Наоборот, иногда они даже платили за свои должности, от которых «кормились», собирая с населения налог в свою пользу, который так и назывался «кормом». Кроме того, за судебные дела наместники и волостели получали сдельную плату с судящихся – «судные пошлины», за регистрацию брачных дел – с жениха и невесты.
Объезжая участки для сбора «корма», чиновники старались посещать деревни в те дни, когда там проходили праздники, чтобы попировать за счет жителей. Это ложилось невыносимой тяжестью на деревенское население Устьи. Деревушки того времени были небольшие. Ночевка или кормление обедом двух-трех чиновничьих обозов могло разорить такую деревню.
Для пресечения злоупотреблений в этой части властью издавались грамоты, в которых определялось, сколько лошадей и слуг мог взять каждый чиновник с собой на время сбора «корма», запрещалось обедать там, где ночевал, и ночевать там, где обедал, запрещалось проживать с обозом в деревне, где справляли какой-либо праздник.
Никаких существенных результатов даже от этих скромных запрещений не могло быть, так как никакого контроля за действиями чиновников не существовало. Московское правительство старалось только использовать их хищнические инстинкты в свою пользу. Для этого время от времени конфисковали в пользу царя имущество слишком разбогатевшего чиновника, а самого его отпускали нагуливать новый жир в каком-либо новом месте в той или иной должности.
Независимо от чиновничьих «кормов» население выплачивало двойные государственные тяжелые налоги и несло многие государственные повинности. Государственные налоги с конца XV века все время росли. Рост их совпадал с ростом международного значения России и обусловливался необходимостью развивать обороноспособность страны. Росту налогов способствовали также увеличившиеся расходы на разрастающуюся бюрократию и царский двор.
До конца XV века князь был предводителем небольшой дружины, во главе которой он шел на войну и посредством которой управлял княжеством в мирное время. Основным налогом были «данные деньги» (это дань, т. е. прямая подать), которые собирались раньше в пользу татар, но с падением татарского ига не были упразднены. Затем шли «ямские деньги» (это ямская повинность – один из основного государственного налога), взимаемые взамен ямской повинности, если она не отбывалась натурой. Кроме того, с населения собирали и другие налоги, такие, как «пятинные» (чрезвычайный государственный налог, введен царем Михаилом Федоровичем) – со скота, пошлина с сена: 5 алтын 2 деньги со 100 копен и другие.
Уже к концу XV века были значительно увеличены налоги, которые шли в основном на содержание войска. Малочисленных княжеских дружин стало недостаточно для охраны громадного государства. В связи с этим было принято решение о создании регулярных войск, которые были расквартированы по деревням для содержания и кормления. В тех деревнях, где не были расквартированы войска, с жителей брали добавочные налоги.
Кроме денежного обложения, население несло натуральные повинности, иногда очень тяжелые. В случаях приезда государя или крупных чиновников со свитой население целых областей выгонялось для отбывания ямской повинности. При этом население обязано было не только возить, но и кормить приезжающих. Деревни, лежащие на большой дороге, практически полностью разорялись от ямской повинности, и население зачастую разбегалось. Следует отметить, что Устьмехренская соха вместе со всеми Устьянскими волостями (в том числе и деревня Новошино) отбывали ямскую повинность на Чушевицком стану, хотя через Устьянские волости не проезжали ни царские, ни чиновничьи обозы, так как эти волости были далеко в стороне. Население Чушевицкой волости в результате разорения полностью разбегалось. В связи с этим Устьянским волостям предписывалось за счет своего населения заселять Чушевицкую волость и самим выплачивать все налоги.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
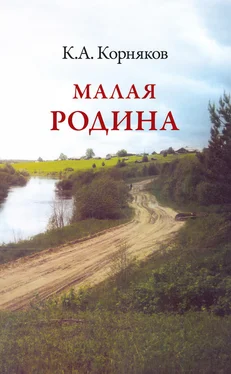
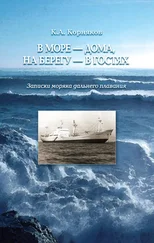
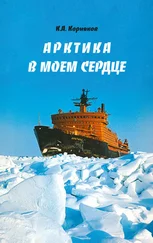
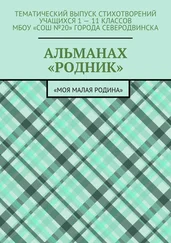

![Валерий Балясников - Моя малая родина [Авторский сборник]](/books/403784/valerij-balyasnikov-moya-malaya-rodina-avtorskij-sbo-thumb.webp)