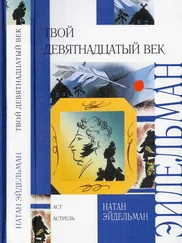1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Историк писал об «изгнанной добродетели» и бичевал пороки своей эпохи с такой энергией, что серьезно «задел» девять особ царствующего дома, а более всего – Екатерину II.
Щербатов был не единственным просвещенным консерватором XVIII столетия. Разврат, тартюфская ложь екатерининского правления не раз вызывали критику с позиций «старинной нравственности»; такие деятели, как И. В. Лопухин, Н. И. и П. И. Панины, Д. И. Фонвизин, играя видную просветительскую, прогрессивную роль, не раз притом мечтали о движении к будущему как бы «через прошлое», о реставрации утраченной патриархальной нравственности и ряда старинных институтов (весьма знаменательно, что герой «Недоросля», отвергающий непросвещенное свинство Простаковых, Скотининых, именуется Стародумом!).
А.И. Герцен, оценивая много лет спустя общественно-политическую позицию Щербатова, колебался и впадал в любопытное противоречие. С одной стороны, он находил, что Щербатов представляет традицию темной старины (идущую от стрельцов, царевича Алексея и др.), что его «натянутый, старческий ропот (…) замолк без всякого отзыва» (Герцен, XIV, 52).
Но в то же время Герцен находит в авторе «Повреждения нравов…» своеобразного предтечу славянофильства и таким образом вводит его в рамки современной культуры и просвещения (см. Герцен, XIII, 273). Действительно, образованнейший мыслитель М.М. Щербатов принадлежит новому времени и не может быть отнесен к «старинным невеждам». По многим коренным вопросам расходясь, например, с Радищевым, Щербатов сходен с ним в одном: что «по-екатеринински», «потемкински» жить нельзя; поэтому, соединяя «Путешествие из Петербурга в Москву» с «Повреждением нравов…» в одном конволюте (изданном Вольной русской типографией в 1858 году), Герцен замечает: «Князь Щербатов и А. Радищев представляют собой два крайних воззрения на Россию времен Екатерины. Печальные часовые у двух разных дверей, они, как Янус, глядят в противоположные стороны» (там же, 272).
Малоизученные проблемы дворянской консервативной оппозиции XVIII века особо интересны и важны для нашего изложения. Разбор подобных идей позволяет произвести известное (очень осторожное, но необходимое) сопоставление «просвещенного консерватизма» и своеобразных консервативных черт народной, крестьянской идеологии.
Разве образованное общество составляло большинство страны? Разве не было миллионов людей, не отделявших просвещение от порабощения, людей, ненавидящих в просвещении ту цену, которую за него берут?
Речь идет о мнении народном, о том трагическом противоречии, что «народ не делает разницы между людьми, носящими немецкое платье» (Чернышевский, X, 92); о том, что побудило, например, Пугачева и его сторонников не увидеть разницы между ученым-астрономом Ловицем и другими «барами»: «Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, (Пугачев) велел его повесить поближе к звездам» (Пушкин, IX, 75).
«Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победой и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр» (Пушкин, XI, 14). Автор приведенных строк через 12 лет уточнит, каково было «пугачевское равнодушие» народа к своим барам…
Но разве дворяне-консерваторы «в простоте» примкнули к «народным идеалам», отвергающим систему Екатерины? Отнюдь нет… Однако существование двух социально полярных точек зрения, отрицающих (каждая по-своему!) «потемкинское» время, порождало, как увидим, внезапные причудливые, очень сложные пересечения двух типов консерватизма, своеобразные их апелляции друг к другу.
Изучение малоизвестных российских консервативных идей помогает, по-видимому, понять происхождение и сущность такого сложного, спорного исторического явления, как «павловская политика».
Завоюй земной весь шар,
Будь народам многим царь,
Что тебе-то помогает,
Если внутрь душа рыдает?
Когда ты невесёл,
То все ты подл и гол.
Г. Сковорода
Среди документов министерства юстиции более столетия хранился в запечатанном пакете любопытный дневник 19-летнего великого князя будущего Павла I. Дневник молодого человека, записывающего (в июне 1773 года) свои переживания, свою «радость, смешанную с беспокойством и неловкостью» при ожидании невесты, «которая есть и будет подругой всей жизни… источником блаженства в настоящем и будущем». Прощаясь с холостой жизнью, юноша грустит, что отныне исчезнут его беспечные отношения с кружком старых друзей, и «не находит слов», когда мать представляет ему ландграфиню Гессен-Дармштадтскую и ее дочерей: Павлу, как Парису, предлагают выбрать одну из трех гессенских принцесс, привезенных на смотрины. [6] ЦГАДА, р. I, № 70. Текст был в 1928 году переведен с французского и подготовлен к печати А. Л. Вейнберг. – ЛБ, ф. 369, 378.36.
Читать дальше
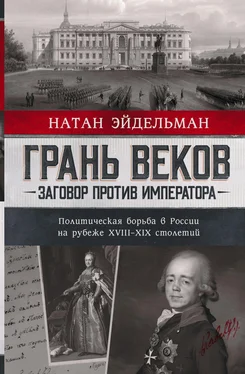



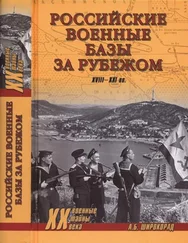




![Евгений Карнович - Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий [репринт, старая орфография]](/books/404244/evgenij-karnovich-zamechatelnye-i-zagadochnye-lichnos-thumb.webp)