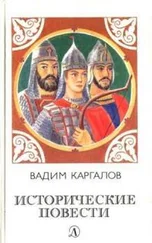Татищев В.Н ., т. V, 51.
Соловьев С.М . (изд. 1960 г.), т. 3, с. 492.
ПСРЛ, т. VIII, с. 49. О том же сообщает Карамзин Н.М. со ссылкой на Троицкую летопись (т. V, с. 34).
ДДГ, с. 20.
В Китае, по данным К.А. Стратонинского, монголы брали, с купцов в виде торговой пошлины 1/30 стоимости товара (Указ. соч., с. 26).
Тизенгаузен , I, 235.
СГГД, т. II, СПб., 1819, с. 5.
Там же, с. 9.
См.: ДДГ, с. 31, 44, 74.
См.: ДДГ, с. 48; ПСРЛ, т. VIII, с. 48; Рубрук , с. 86.
Тизенгаузен , I, 303.
Марко Поло . Путешествие, 1940, с. 263.
См.: Приселков М.Д . История русского летописания. Л., 1940, с. 91–93.
Лихачев Д.С . Русские летописи. М.—Л., 1947, с. 280–281.
См.: Ключевский В.О . Древнерусские жития как исторический источник. М., 1871, с. 147.
ПСРЛ, т. 2, стб. 808.
Тихомиров М.Н. Воссоздание русской письменной традиции в первые десятилетия Татарского ига. «Вестник истории мировой культуры», 1957, № 3, с. 9, 12.
См.: Насонов А.Н. Монголы и Русь. М.—Л., 1940, с. 37–38.
Там же, с. 67.
ПСРЛ, т. 7, с. 141.
ПСРЛ, т. I, стб. 467.
ПСРЛ, т. 5, с. 186; т. 7, с. 143, 245; т. 10, с. 113; т. 15, с. 273; т. 19, с. 9; т. 24, с. 94 и др.
«Повесть о приходе чудотворного образа Николина Зарайского из Корсуни-града в пределы Рязанские». Временник ОИДР, кн. 15, 1852, с. 18, 21.
Монгайт А.Л. По следам древних культур. Древняя Русь. М., 1953, с. 320.
ПСРЛ, т. 21, с. 253.
Город Переяславль разрушался татарами после нашествия Батыя четыре раза (в 1252, 1281, 1282, 1293 гг.), т. е. больше, чем любой другой город Северо-Восточной Руси.
ПСРЛ, т. 18, с. 82.
ПСРЛ, т. 7, с. 180.
См.: Любавский М.К. Образование основной государственной территории великорусской народности. Заселение и объединение центра. Л., 1929, с. 8, 22–33.
Мы намеренно не останавливаемся на вопросе о социально-экономических причинах русской колонизации Севера. Перемещение населения из междуречья Оки и Волги на север рассматривается только в связи с влиянием на этот процесс татарских походов второй половины XIII в. Не разбираются в главе и вопросы, связанные с новгородской колонизацией севера, начавшейся задолго до монголо-татарского нашествия.
См.: Любавский М.К. Указ. соч., с. 25–28.
Там же, с. 8.
Голубева Л.А. Белозерская экспедиция 1957. г. КСИИМК, № 79, 1960, с. 40–43.
Во всем Устюжском крае, по подсчетам М.К. Любавского, зафиксировано появление только 5 новых монастырей.
Третьяков П.Н. Костромские курганы. Известия ГАИМК, т. 10, вып. 6–7. М.—Л., 1931, с. 7, 24, 28, 36, 37.
См.: ПСРЛ, т. 7, с. 180; т. 5, с. 239; т. 8, с. 69.
Галицкий М.В. Верхнее Прикамье в I–XIV вв. МИА, № 22, 1951, с. 69.
Галицкий В.В. отмечает, что «болгарское влияние на Верхней Каме археологически выявляется чрезвычайно ярко», район Верхней Камы был для болгар «областью их коренных интересов» (Указ. соч., с. 71, 76). В конце XIII в. на Каму и ее притоки проникли и монголо-татары: их погребения, например, появились в это время на реке Чепце ( Смирнов А.П. Волжские булгары. М., 1951, с. 54–55).
См.: Гусаковский Л.П. Отчет об археологических работах в г. Кирове в 1959 году. Архив ИА, Р–1, № 1922, с. 1, 17, 18.
В исторической литературе высказывались предположения о существовании в районе Верхней Вятки какой-то «Вятской республики». Трефилов А.Ф., например, утверждал, что на Вятке «во второй половине XIII — начале XIV в. из переселенцев русских княжеств Северо-Восточной Руси скопилось такое количество русских, что они возглавили объединение всего населения Вятской земли в единый политический организм» («Очерки истории Удмуртской АССР», т. 1. Ижевск, 1958, с. 261). Мнение об образовании на Вятке какого-то специфического «политического организма» не подтверждается источниками; нет никаких оснований считать, что на Вятке сложились особые социальные отношения.
Читать дальше
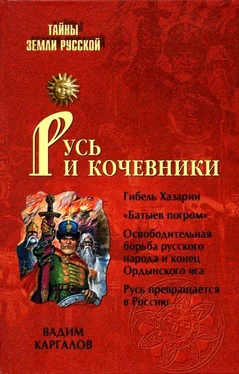
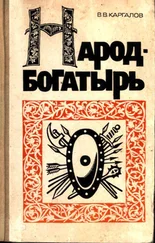
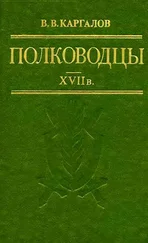
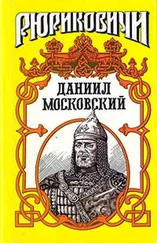
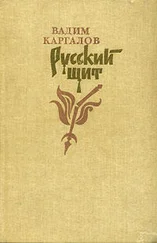



![Вадим Каргалов - У истоков России [Историческая повесть]](/books/394663/vadim-kargalov-u-istokov-rossii-istoricheskaya-pove-thumb.webp)