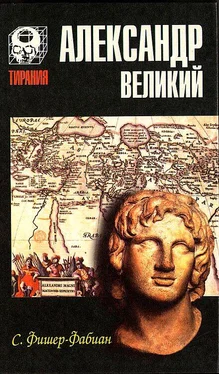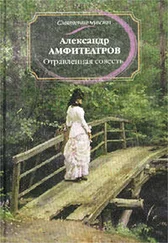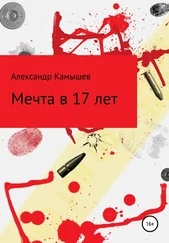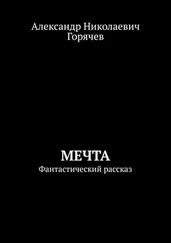Но его слова были, скорее, предназначены для солдат. Александр знал, насколько непредвиденной была такого рода ночная операция. Вместе со своими полководцами он удалился в царскую палатку и обсуждал план наступления на следующий день. Он поразил всех одним новшеством: так как превосходство противника на этот раз было более внушительным, чем при Иссе, и линия фронта была, соответственно, длиннее, то следовало рассчитывать на охват персами обоих македонских флангов. Чтобы встретить окружение, он за фалангой поставит вторую линию воинов, которая должна будет повернуться в случае обхода, чтобы при этом образовать каре. Тактически это была совершенно новая мысль, и командирам требовалось время, чтобы ее усвоить.
А сам Александр уже погрузился в глубокий сон, что говорило о его крепких нервах накануне решающего для него сражения. За час перед рассветом солдаты начали строиться, а их полководец все еще спал. Наконец, Парменион вошел в его шатер и трижды позвал по имени. «Ты спишь сном победителя, — сказал он, — но лавры еще не собрал».
Александр улыбнулся: «Ты не веришь, что мы уже победили, мой старый друг? Мы победили уже тогда, когда заставили Дария стоять на месте, когда отпала необходимость гнаться за ним по той земле, которую он опустошил и выжег».
Он надел свой панцирь сицилийской работы и двойные латы, добытые в бою при Иссе. Шлем с железным воротником, украшенный драгоценными камнями, был изготовлен в мастерской Теофила. Трижды закаленный и удивительно легкий меч сковал кипрский кузнец-оружейник. Копье с металлическим наконечником было из твердого вишневого дерева. Перед шатром ждал конюх с Буцефалом. Этого коня он держал только для боя, в походе царя несли другие кони.
«Александр вскочил в седло…» — можно прочитать в исторических романах. Это было невозможно, потому что седел тогда еще не было. Стремена тоже изобрели намного позднее (впервые они встречаются у кочевников-самаритов). Когда Оттон I Великий в битве при Лехе одержал победу, он не в последнюю очередь был благодарен этому изобретению, которое дало опору его всадникам и увеличило тем самым ударную силу их копий. Чтобы идти в конную атаку без стремян, свалить врага с коня, молниеносно поворачиваться налево или направо, конь и всадник должны были слиться воедино, превратиться в мифического кентавра. Лошади, происходившие, главным образом, с равнин Фессалии, были крепкими, горячими, но довольно низкорослыми. Изображенная древнегреческими художниками и скульпторами лошадь едва достигала в холке полутора метров. Филипп, пытаясь устранить этот недостаток, ввез для разведения двадцать тысяч высокорослых скифских кобыл.
Всадники взбирались на своих коней со специальной стойки, а будучи тяжело вооруженными, использовали для опоры копья, если только не предпочитали в качестве помощника раба. Шпоры к тому времени уже были известны, но должны были применяться только в момент опасности. Из книги «О верховой езде», написанной в 400 году до н. э. греческим командиром конников и историком Ксенофонтом, мы знаем, что лошадей обучали полупируэту и быстрому повороту — двум важным движениям в бою.
Ганнибал, Цезарь, Фридрих Великий, Наполеон
Бросается в глаза то, что царь, несмотря на внешнюю уверенность, впервые принес жертву Фобосу и Деймосу, которые были воплощением ужаса и страха. Когда бог войны Арес хотел увлечь солдат в неистовую атаку, чтобы разжечь в них жажду крови и убийств, то призвал для этого обоих своих сыновей. Еще больше настораживает сказанное царем фессалийским конникам, которых он ценил выше всех греков: «Мы победим. Не будь я сыном Зевса-Аммона!» То, что он в этот момент посчитал нужным сослаться на своего «отца», говорит о его душевном состоянии.
Военные историки постоянно воспроизводят на макетах эту битву на равнине у Гавгамел, примерно в тридцати пяти километрах северо-восточнее Мосула. Наклонившись над своими ящиками с песком, двигая навстречу друг другу цветные бруски, изображавшие корпуса обеих армий, они и две тысячи лет спустя все еще удивляются, как персы смогли проиграть это сражение. У них было пятишестикратное преимущество в численности войск, лучшие лошади (из конюшен Мидии, Армении, Каппадокии), управляемые дикими степными наездниками Средней Азии; поле боя представляло собой идеальное место для кавалерийских атак; фронт был таким растянутым, что противника можно было охватить и окружить с обоих флангов. Эксперты доказывают, что Александр никогда не выиграл бы сражения, если бы действовал в соответствии с этими планами и чертежами со многими стрелками, со сплошными пунктирными линиями, с заштрихованными и помеченными черным цветом территориями.
Читать дальше