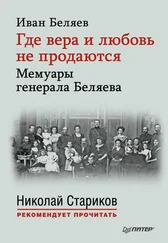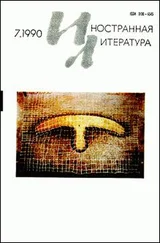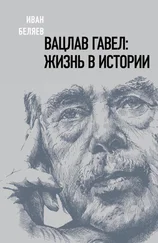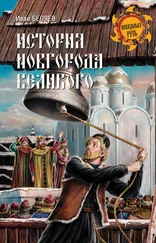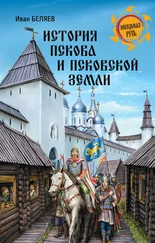Выступил и Гавел, причем у него все еще была возможность сделать это по телевизору:
Дорогие друзья! Поступок Яна Палаха – крайнее выражение нашей общей боли. Это крик, который один человек решился выкрикнуть за всех нас. Но именно потому это и обдуманный политический поступок. Мы должны принять его так и только так, как он был задуман. Как призыв к активности, к настоящей последовательной борьбе за все, что мы искренне считаем правильным, как вызов, предостерегающий нас перед равнодушием, скепсисом и безнадежностью. <���…>
Смерть Яна Палаха я воспринимаю как предостережение перед нашим общим моральным самоубийством. 150 150 https://archive.vaclavhavel-library.org/File/Show/157641.
21 января Гавел обнаружил у себя дома прослушивающую аппаратуру. Он опубликовал статью, в которой преподнес это как случайность: якобы он менял люстру вместе с племянником Ольги и наткнулся на жучок. На самом деле Гавел таким образом заметал следы за источником информации: о жучке ему рассказал по цепочке из нескольких человек симпатизирующий реформаторам офицер госбезопасности.
В самом начале 1969 года Гавел вступает в полемику с Миланом Кундерой, который опубликовал статью «Чешская судьба» по итогам разгрома Пражской весны. В частности, Кундера писал:
Годы от 1939-го и до самого недавнего времени не могли наполнить чешскую душу особой гордостью. <���…> приспособленчество, отсутствие смелости для самостоятельной политики, господство завистливой посредственности, повсеместное унижение – все это пробуждало в нас крайне скептические мысли о чешском характере и проливало беспощадный свет на историю, которая этот характер сотворила. <���…>
Август пролил новый свет на всю нашу историю. Не то чтобы скептическая критика чешского характера утратила силу, но она дополнилась взглядом с другой стороны. <���…>
Попытка создать наконец (впервые в мировой истории) социализм без всемогущества тайной полиции, со свободой писаного и сказанного слова, с общественным мнением, к которому бы прислушивались, и с политикой, которая бы на него опиралась, с современной и свободно развивающейся культурой и с людьми, которые потеряли страх, – это была попытка, благодаря которой чехи и словаки впервые с конца средневековья очутились в центре мировой истории и адресовали свой вызов всему миру. 151
Гавел в своей статье (как уже в наши дни утверждает Богумил Долежал, «в одной из лучших критических статей, написанных в то время» 152) отвечает Кундере резко и без обиняков:
Якобы мы оказались – впервые с конца средневековья – в центре мировой истории, потому что выступали – впервые в мировой истории – за «социализм без всемогущества тайной полиции, со свободой писаного и сказанного слова». Якобы наш эксперимент был нацелен в столь далекое будущее, что мы просто должны были остаться непонятыми. Какой благоуханный бальзам на наши раны! И в то же время какая горькая иллюзия. Действительно, если мы будем воображать, что страна, которая хотела завести свободу слова – нечто, что является очевидным для большей части цивилизованного мира; которая хотела устранить деспотизм тайной полиции и оказалась благодаря этому в центре мировой истории, – не будем ли мы не чем иным, как хвастливыми писаками, смешными в своем провинциальном мессианизме? Свобода и законность – первые предпосылки нормального и здорово функционирующего общественного организма, и если какое-то государство пробует после многих лет отсутствия их восстановить, то не делает ничего исторически невообразимого, а пытается лишь исправить собственную ненормальность – без оглядки на то, именуется это государство социалистическим или нет. 153
Жантовский считает, что резкий тон Гавела во многом продиктован и личными претензиями к Кундере: тот, например, не подписал петицию в защиту «Тваржа» (а в 1972 году Кундера не подпишет еще и петицию в поддержку политзаключенных, к которой имел прямое отношение Вацлав Гавел, и навсегда покинет Чехословакию).
Милан Кундера ответил статьей «Радикализм и эксгибиционизм», о полемическом задоре которой говорит уже один только заголовок. Автор упрекнул Гавела в том, что он не анализирует исходный текст по существу («сомневаюсь, что хоть кто-то, читавший мою статью, узнал бы ее в гавеловской интерпретации»), и постарался прояснить именно ту часть своего высказывания, которое Гавел так злобно высмеял:
Гавел не питает никаких иллюзий о социализме, но зато явно имеет какие-то иллюзии о том, что он называет «большей частью цивилизованного мира», будто бы там было то царство нормальности, к которому нам достаточно было бы припасть. Слово «нормальный» не принадлежит к числу наиболее точных терминов, но это любимое слово Гавела, и мы могли бы согласиться, что «нормальной» является, например, свобода печати. Но ведь это лишь абстрактный принцип, который в своем конкретном проявлении означает в «большей части цивилизованного мира» нечто совершенно ненормальное (расчеловечивающее и оболванивающее) – господство коммерческих вкусов и коммерческих интересов. Свобода печати, как мы ее начали воплощать в прошлом году в стране социалистической, означала по своему масштабу, содержанию, структуре и функциям новое общественное явление. Здесь ничего нельзя было сымитировать, не было ничего нормального, к чему можно было бы бежать, все нужно было создавать своими руками и впервые. Именно потому левые всего мира должны были, часто через драматические разрывы, на основе чехословацких событий полностью переосмыслить свою политику, значение и цели. Если Гавел не хочет этого видеть и воспринимает шестьдесят восьмой год как малозначительную чешскую проблему, это его вторая ошибка. 154 154 https://is.muni.cz/el/1423/jaro2011/SOC403/um/Cesky_udel.pdf.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Иван Беляев Вацлав Гавел. Жизнь в истории [litres] обложка книги](/books/436501/ivan-belyaev-vaclav-gavel-zhizn-v-istorii-litres-cover.webp)