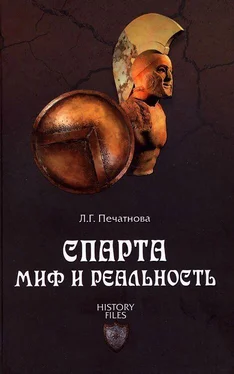Если свои судебные функции геронты делили с царями и эфорами, то предварительное обсуждение всех вопросов, вносимых на рассмотрение народного собрания, принадлежало исключительно им одним. Значение глагола προβουλεύειν («предварительно советовать или решать») в конституциональном контексте хорошо известно: оно означает право совета решать, нужно ли предложите выносить в народное собрание для его окончательного утверждения. Сведений о пробулевтической деятельности герусии мало. Ни Геродот, ни Фукидид, ни Ксенофонт об этом вообще не упоминают. Только Плутарх в своем рассказе о деятельности герусии в эпоху царей-реформаторов Агиса и Клеомена прямо указывает на то, что власть и сила геронтов заключалась в их праве принимать предварительные решения (Agis 11.1: оις τό κρατος ήν ev τω προβουλεύειν). Немногие данные, имеющиеся в нашем распоряжении, вполне положительны и не оставляют сомнений, что герусия обладала правом формулировать предварительные решения для спартанской апеллы.
Право коллективной законодательной инициативы, т. е. право предварительной дискуссии и формулирования предложений перед вынесением их для голосования в народном собрании, было одной из важнейших политических привилегий герусии. Очень вероятно, что Солон воспользовался опытом Спарты, наделив афинский совет пробулевтической функцией. По словам П. Кэртлиджа, «в Афинах этот метод был впервые введен в начале VI в. Солоном. Одна из его поэм называлась Эвиомией, т. е. «Благозаконием»; и в этом, и в других отношениях Солон мог сознательно следовать за примером, поданным спартанской Ретрой почти столетием раньше» [175]. В новейших работах, посвященных реформам Солона, также высказывается мнение, что влияние Спарты на Солона очевидно [176].
Герусия, подобно афинскому совету, выполняла важную функцию: она выступала в качестве постоянно действующего комитета при народном собрании и в этом своем качестве разрабатывала предварительные решения, так называемые пробулевмы, которые затем передавались для окончательного утверждения народному собранию. Спартанская апелла, скорее всего, имела формальное право отвергнуть любое предложение герусии, однако вряд ли она могла вносить какие-либо поправки в предлагаемый геронтами проект решения. Более того, Аристотель в «Политике» даже утверждал, что народное собрание в Спарте имело одно-единственное право — ратифицировать решения геронтов. По его словам, «в народном собрании участвуют все, но права выносить самостоятельное решение народное собрание не имеет ни в чем, а только утверждает постановления геронтов…» (II. 7. 4. 1272 а 10–12). Аристотель, судя по всему, думал, «будто народное собрание просто проштамповывало уже принятые решения» [177].
Герусия в историческом контексте
Из древних историков Геродот первым привел сюжет, связанный с деятельностью герусии. Случай, рассказанный им, имел место в 540 г. и связан был с повторной женитьбой спартанского царя Анаксандрида (V. 39–40). Царь, не имея детей от первой жены, несмотря на неоднократные требования эфоров развестись с бесплодной женой, категорически отказался это сделать. Тогда эфоры, заботясь о продолжении царского рода, обратились за поддержкой в герусию. В результате было принято совместное решение: царю предложили взять вторую жену, которая смогла бы родить наследников. Анаксандриду этот компромиссный вариант показался приемлемым, и он «совершенно вразрез со спартанскими обычаями» имел две жены и вел два хозяйства (V. 40). Здесь герусия, действуя совместно с эфорами, смогла разрешить кризисную ситуацию и добилась от Анаксандрида согласия на второй брак. Диархия была спасена, политическая стабильность восстановлена, хотя и дорогой ценой. Во-первых, двоеженство для Спарты было весьма экзотическим вариантом брачных отношений, о чем прямо говорит Геродот, во-вторых, в будущем это могло привести к спору за престолонаследие (что и случилось). Подобная уступка Анаксандриду со стороны прежде всего герусии означает, что, по крайней мере в сер. VI в., спартанские цари были еще самостоятельными политическими фигурами и пользовались огромным авторитетом, не подчиняясь безоговорочно приказам, исходящим от геронтов и эфоров. Приведенный Геродотом случай — единственный, свидетельствующий об активности герусии в период архаики.
Немногим более сведений о деятельности герусии мы имеем о классической эпохе. Так, Диодор рассказывает о горячих спорах, происходивших как в герусии, так и в апелле около 475 г. по самой важной для того момента внешнеполитической проблеме, — бороться ли Спарте с Афинами за морскую гегемонию или уступить Афинам в этом вопросе (XI. 50). Это свидетельство Диодора не оставляет сомнений, что герусия сыграла определяющую роль в этих дебатах, выступив за уменьшение или даже полный отказ от внешнеполитической активности. По словам Диодора, большинство спартанских граждан, особенно молодежь, выступали «за восстановление гегемонии, считая, что, если это сделают, получат много денег и вообще Спарта станет великой и более могущественной…» (XI. 50. 3. Пер. В.М. Строгецкого). И только усилиями одного из геронтов, Гетоймарида, поддержанного всей герусией, удалось убедить народ отказаться от опасной для Спарты конфронтации с Афинами. Диодор характеризует Гетоймарида как человека весьма знатного, потомка Гераклидов, «пользующегося большим авторитетом у граждан благодаря своей доблести» (XI. 50. 6). Это типичная характеристика знатного спартанца. И роль герусии в данном контексте тоже вполне типична — отказ от слишком активной внешнеполитической деятельности и свертывание морской программы. Диодор ясно указывает на разность позиций спартанской молодежи и старшего поколения, представители которого сидели в герусии. Как это часто бывало в спартанской истории, верх взяли «старики», и Спарта без боя уступила Афинам гегемонию на море.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу