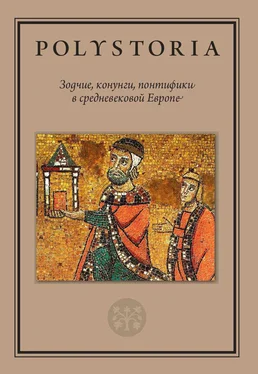Рассуждая далее о субботе, обрезании и других заповедях Моисея, Пигас говорит, что они оскорбляют «оучительство Христа Спаса», потому что именно Христос научил тому, как по-настоящему нужно исполнять Моисеевы заповеди, говоря, в частности, что он пришел не отменить, а исполнить закон Ветхого Завета. Например, Моисеем был дан закон о том, чтобы не делать зла, а Христос, во исполнение Моисеевых заповедей, требует не иметь дурных намерений; рассуждая далее о грехе и «приложении» греха, Пигас пишет, что после пришествия Христа Господь «взыскует» от человека «творити суд и любити милость» [544].
В трактате подчеркивается, что Новый Завет дан именно дому Израилеву [545](видимо, подразумевалось: а не язычникам), и этот новый закон превосходит старый, потому что это закон именно внутреннего, духовного делания, а не внешнего. Следует противопоставление двух заветов как двух законов, и, в частности, Пигас обвиняет иудеев в неисполнении Закона [546].
Далее тема двух заветов развивается, и оказывается, что неприятие Нового Завета есть одновременно неприятие и Моисея, что и вменяется в вину иудеям, в то время как именно христиане предстают верными исполнителями Закона [547].
В связи с этим развивается тема двух обрезаний, подлинного и ложного, внутреннего и внешнего. Бог завещал не плотское обрезание, а обрезание в духе и проч. Иудейское обрезание было установлено как образ будущего обрезания. После же вполне умеренной по тональности полемики об обрезании разворачивается столь же «академическая» по тону полемика о субботе, в которой христианское понимание Богопочитания как именно духовного почитания противопоставлено иудейскому почитанию субботы как плотскому установлению [548].
Трактат завершается сожалением, что иудеи не желают увидеть в христианах подлинный Израиль, появление которого провозвещено пророками и самим Богом. Именно христиане и есть те люди («языцы»), которые наследуют Аврааму («Сие же семене обетование верою прием Авраам, иже верою приемлющим благословение (нам реку языком)»). Книга завершается призывом к иудеям последовать примеру христиан.
Как мы видим, отраженные в охарактеризованных выше и вполне репрезентативных памятниках восточнославянской православной антииудейской полемики конца XV–XVI вв. представления не содержат конструкций, которые присущи «химерическому» антисемитизму, составляющему, в свою очередь, очень существенный, если не главный пласт представлений о евреях и иудаизме в опыте западнохристианских антииудейских дискурсов позднего Средневековья. Почему?
Этот же вопрос встает при обращении ко многим другим памятникам традиционной византийско-славянской письменности; он выходит далеко за пределы задач нашей работы. Поэтому пока следует ограничиться самым очевидным: наши памятники выразили враждебный, но в то же время терпимый взгляд на иудаизм, характерный, как кажется, для традиционных восточнославянских антииудейских представлений, восходящих, в свою очередь, к византийско-восточнохристианской модели отношений христиан и евреев. Это предварительное наблюдение в будущем нужно будет проверять, обратившись к более широкому кругу восточнославянских и византийских средневековых текстов.
Пока же ограничимся верификацией данной гипотезы, обратившись к нескольким типичным польским антииудейским сочинениям той же эпохи.
Иудеи, иудаизм и евреи в зеркале польских католических полемических и проповеднических текстов XVI — начала XVII вв
Книга ксёндза Пшецлава Моецкого «Жестокость, убийства и суеверия евреев» [549]— один из самых известных и одновременно одиозных примеров антисемитской и антииудейской мифологии в польской культуре XVI–XVII вв. Она была опубликована в первый раз в те же годы, когда во Львове публиковалось сочинение Мелетия Пигаса, о котором речь шла выше, и была посвящена князю Янушу Острожскому, каштеляну Краковскому, представителю того рода, который в конце XVI в. возглавлял Константин Острожский, знаменитый лидер православного лагеря в общественной жизни восточных земель Речи Посполитой, к кому как к патрону постоянно обращалось Львовское православное братство и кто создал в Остроге православный просветительский центр с типографией. Схема этого хорошо известного и многократно проанализированного сочинения П. Моецкого проста: дьявол всегда стремился навредить человеку, лишить его надежды на спасение, начиная от грехопадения Адама и Евы. Одним из его следующих шагов было намерение убить Христа во младенчестве, и на это дьяволом был подбит царь Ирод; то, что не удалось Ироду, стали делать и делают до сих пор евреи, и Моецкий ссылается на длинный ряд примеров (Вильям Норвичский, Симеон Тридентский и др.) и, доказывая «иудейскую ненависть» к христианам, не забывает, конечно, написать о таком распространенном обвинении в адрес иудеев, как профанация причастия…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу