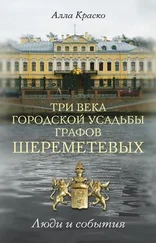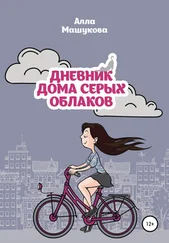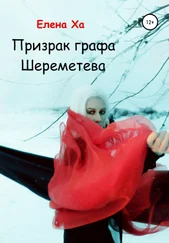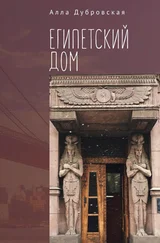Но случалось и недовольство со стороны хозяина. Так, 18 октября 1801 г. граф отдает распоряжение: «Санкт-Петербургской Собственной моей канцелярии. За небрежение своей должности, не сохранение тех предосторожностей, кои более всего должны озабачивать попечение доброго и усердного слуги, и наконец за упущении из виду тех препоручений, которые начальственному ведению препоручены были, определяю управителю Никите Александрову совершенное мое неудовольствие, а потому прибавочного по штату генваря 24 дня сего году жалованья не производить» [367] Столетние отголоски. 1801 год. С. 75–76.
. Графу донесли, что по вине официантов Фонтанного дома разбили или повредили «бронзовую группу».
Управителю поручались и деликатные вещи. 3 ноября 1801 г. граф Николай Петрович предписывал Никите Александрову: «За время пребывания моего в Москве замечено мною, что находящийся при Домовой конторе столоначальник Василий Прихудайлов обращается в пьянственных поступках и нерачительности к своей должности. И записывать всякий раз, что будет пьян, и по приезде подать мне список» [368] Там же. С. 80.
. Однако при реорганизации Домовой конторы в 1808 г. этого служителя все-таки оставили в важной должности — видимо, он считался хорошим специалистом. А что злоупотреблял спиртным — то, видимо, этот порок многим был свойствен.
Никита Александров занимал должность управителя в Фонтанном доме, по штату он состоял одним из двух управителей и ведал «казначейством» [369] РГИА Ф. 1088. Оп. 3. Д. 259. Образование Домовой канцелярии. Л. 3.
. От его честности и добросовестности в исполнении своих многотрудных обязанностей зависело в Фонтанном доме очень много. По всей видимости, его авторитет среди служителей был высок, его имя часто встречается в качестве восприемника при крещении детей или поручителя при венчании служителей «дому графа Шереметева». Он жил в одном из надворных флигелей. Все жилые и хозяйственные флигели были сосредоточены ближе к северной границе усадьбы, как это видно на сохранившихся планах начала XIX в. Известно, что Никита Александров в 1809 г. занимал две комнаты «в пять окошек» с голландской изразцовой печкой, кухня размещалась отдельно [370] РГИА Ф. 1088. Оп. 3. Д. 115. Л. 63.
. Небольшое по размеру его жилье объяснялось тем, что детей у него не было. Жена Никиты Александрова Екатерина умерла в 1805 г. вследствие паралича. Отпевали ее в домовой церкви Фонтанного дома [371] ЦГИА СПб Ф. 19. Оп. 111. Д. 140. Л. 233 об. М. к.
. На ее надгробии на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры была такая эпитафия: «Дедешина Екатерина из старинной фамилии смоленских дворян Дедешиных. Родилась 17 декабря 1748 года, умерла 9 ноября 1805 г. Вторым браком была 20 лет 10 месяцев и 5 дней за управителем дома графа Николая Петровича Шереметева Александровым Никитою» [372] ПН. Т. 2. С. 21.
. Однако в метрической книге о ее отпевании указано, что она погребена на Волковом кладбище.
Если такая эпитафия действительно существовала, то надо заметить две странности. Во-первых, указана не мужнина фамилия, а девичья. Во-вторых, указание на ее происхождение из рода смоленских дворян. Однако Дедешины в середине 1730-х гг. были «служителями» князей Черкасских, а потом перешли в собственность графов Шереметевых. Михаил Дедешин в 1763 г. исполнял обязанности кофешенка [373] Отголоски XVIII века. Вып. X. С. 51.
, некоторые из них служили управителями [374] РГИА. Ф. 1088. Оп. 3. Д. 1390, 1411.
. Жена бывшего камердинера Петра Дедешина Анна Алексеевна, 62 лет, жившая «на Черкасском огороде» в Москве, получала пенсию от графа — 25 руб. жалованья и 211 руб. «на припасы» [375] РГИА. Ф. 1088. Оп. 3. Д. 1556. Л. 4 об. Списки пенсионеров графа Н. П. Шереметева. 1802 г.
. Конечно, никакого контроля за содержанием эпитафий никто не вел, это частное дело.
Скорее всего, эта надгробная надпись на могиле Екатерины Александровой — отголосок истории о «полоняниках», бывших смоленских шляхтичах, которые волею судьбы (при первой или второй ревизии) были записаны в подушный оклад за помещиком и тем самым стали крепостными. За два с половиной года до смерти жены Никиты Александрова скончалась графиня Прасковья Ивановна Шереметева, семью которой пытались объявить потомством шляхтича Ковалевского, случайно попавшего «в оклад». В ближнем кругу служителей графа Николая Петровича Шереметева знали о тайных поисках «шляхетских» предков Прасковьи Ковалевой.
На дворянских предков в те годы пытались ссылаться и другие крепостные. Так, архитектор Алексей Федорович Миронов (ок. 1745–?), живший и работавший главным образом в Москве, просил графа освободить его от крепостного состояния, мотивируя это тем, что он тоже «природный поляк». Граф повелел московскому управителю Алексею Агапову «разведать стороною», собрав сведения из государственного и домового архива о том, каково происхождение Миронова. Агапов в марте 1802 г. докладывал графу: «Касательно до архитектора Миронова по государственной архива старых дел справке делана и подлинная сказка, взятая от Миронова отца, который показал, что он природный крепостной, следственно проситель сын его не имеет права быть свободным…» Он добавил также, что «отец его служил поваром, тогда отдавали учиться поваренному самого низкого состояния, следственно, чужестранца и не употребили бы в эту должность… Мироновым двигает обыкновенное честолюбие не быть в холопстве, второе — жить по своей воле и художеством своим сделать состояние себе лучшим и думает жить в изобилии… имеет большую склонность быть в покое и праздности…» В шереметевском архиве есть данные о том, что крепостной служитель Федор Миронов в 1764 г. состоял старостой в Михайловской вотчине — но он ли был отцом архитектора, точно сказать нельзя [376] РГИА Ф. 1088. Оп. 6. Д. 1436. 1764 г.
. Граф повелел Агапову передать Миронову свою волю: «Поручаю тебе ему сказать, чтоб он не тревожился о своей свободе, которую он, конечно, будет иметь в случае, если должен будет остаться после меня. Но теперь желаю я и требую, чтобы он послужил мне и употребил себя на мою пользу, естьли же нужна ему какая резонабельная прибавка в содержании, то я оную готов ему сделать» [377] Станюкович В. К. Крепостные художники Шереметевых. С. 174–175.
. Крепостные крестьяне Михайловской вотчины Долгополовы в те же годы пытались доказать дворянское происхождение своих предков, записанных якобы по ошибке в подушный оклад [378] РГИА Ф. 1088. Оп. 6. Д. 1608.
— точно так же, как предки Прасковьи Ковалевой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
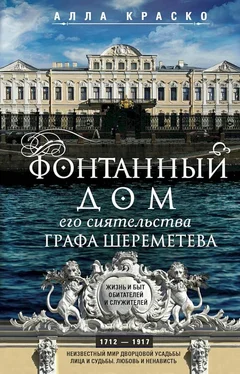

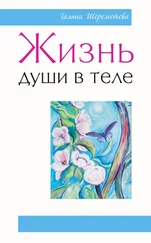
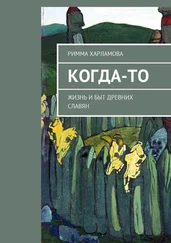
![Хелен Скейлс - О чём молчат рыбы [Путеводитель по жизни морских обитателей] [litres]](/books/392950/helen-skejls-o-chem-molchat-ryby-putevoditel-po-zhi-thumb.webp)