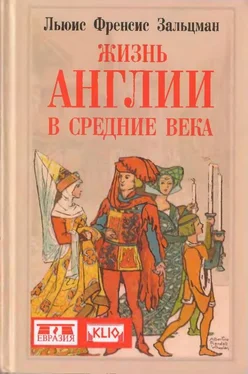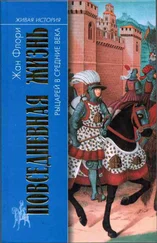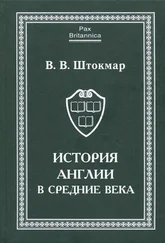Вольнолюбивый дух, побуждающий людей страстно желать свободы и бороться за её законодательное признание, овладел умами только после того, как эпоха Ренессанса дала новую жизнь философии и идеалам Древней Греции, положив конец по-детски невозмутимому согласию с наличным порядком вещей, которое было присуще Средневековью.
Фундаментом, на котором зиждилось средневековое общество, была земля. На протяжении нескольких веков после норманнского завоевания — в отличие от современной эпохи — безземельных людей почти не было, такие лишь изредка встречались в больших городах. Большинство жителей Англии имели непосредственное отношение к сельскому хозяйству и владели каким-либо участком земли. Это могли быть несколько огородных грядок у полуразвалившейся лачуги или тысячи акров, разбросанных по дюжине графств; участок мог быть получен за службу в чине маршала в королевской армии во время войны или в обмен на скромную службу пахаря либо возчика у кого-нибудь из местных сквайров, но в любом случае это была та доля английской земли, на которую хозяин мог со всей определённостью указать как на свою собственную. Обычно владельцу крошечного надела даже меньше грозило лишиться своей земли, чем владельцу обширных поместий, вызывавших зависть у короля. Кроме того, у каждого клочка земли имелся свой лорд, верховным же лордом всех земель был король. Воробей, склевавший пшеничное зерно, мог таким образом похитить в зародыше будущий колос, которому надлежало пойти прямо в королевские закрома, но, что куда более вероятно, он мог ограбить Джона Доу, который был бедным арендатором сэра Жоффруа де Сея, получившего свои земли от графа Суррея, который владел своими имениями по воле короля. Во втором случае, если бы Джон Доу сбежал или умер, не оставив наследников, клочок земли, на котором совершил своё злодеяние воробей, отошёл бы сэру Жоффруа, а если бы тот совершил преступление, караемое конфискацией земель, этот клочок перешёл бы к графу Суррея и, окажись сей владетельный господин замешан в подготовке мятежа, достался бы вместе со всеми его поместьями королю. Не станем задаваться вопросом о том, должен ли был при таких условиях наш добрый король послать своих стрелков сразить насмерть преступного воробья; мы лишь хотели показать, что почти каждый человек имел свою землю, у каждого участка земли был по меньшей мере один хозяин, а зачастую и несколько владельцев разного уровня, а надо всеми стоял король. Посмотрим, как сложилась эта система и какую роль она играла в жизни средневекового человека.
В быту первых обитателей Англии землепашество не имело особого значения. Они жили, в основном, за счёт охоты и переселялись из края в край, оседая на какое-то время в богатых дичью и пригодных для жизни местах. Там они ставили жилища наподобие вигвамов, которые служили кровом их родовой общине, и возводили вокруг этих жилищ земляной вал, частокол или какую-либо другую ограду. И поскольку люди не могут чувствовать себя хорошо, питаясь одним только мясом, часть окрестных земель обычно вспахивали примитивным плугом и засевали зерном, которому предстояло, созрев, быть собранным и истолчённым в муку работящими женскими руками, а затем эти же руки пекли из муки лепёшки, и всё это должно было способствовать выживанию наиболее приспособленных. Из-за того, что год за годом один и тот же участок земли засевали тем же самым зерном, со временем урожай становился всё скуднее и скуднее. Когда же почва окончательно истощалась или когда в окрестных лесах переводилась дичь, деревню оставляли; члены родовой общины отправлялись на поиски нового пристанища и даже нескольких, если число людей увеличивалось настолько, что совместная жизнь становилась обременительной. О тех временах — и только о тех временах — можно сказать, что земля принадлежала народу; тогда не существовало частных прав на землю, поскольку не было частных лиц, способных предъявить их: жизнь вне сообщества — племени или рода — была практически немыслима, и, будь она даже притягательна, такая жизнь неминуемо оказалась бы очень краткой.
К тому времени, когда на территорию Британии пришли римляне, местное население уже было в большей степени оседлым и жизнь его была устроена несколько сложнее. Деревни стали крупнее, а их обитатели обзавелись личной собственностью, отчего им было уже не так просто, как прежде, переселиться на новое место, подобно рою пчёл, перелетающих в новый улей. Кое-кто из жителей теперь держал коров и свиней, что не только осложняло перемещение людей в другое место, но и в значительной мере способствовало возникновению представлений о частной собственности и о вступающих в противоречие правах на землю. Владелец скота имел в нём пищу, а также богатство; теперь у него было то, что он мог обменять (стало быть, то, чем можно было торговать), однако у него появлялись и дополнительные обязательства перед соседями. На неогороженных территориях скотина могла пастись, где ей заблагорассудится, но если животные, принадлежавшие тому или иному лицу, забредали в общественные хлеба или начисто выщипывали лучшую траву у реки, обрекая остальной скот на полуголодное существование, то это было чревато большими неприятностями для хозяина, если, конечно, его не защищал статус вождя или жреца. Так постепенно возникал обычай огораживать поля и лучшие луга, ограничивать количество скота, выгоняемого на такие луга одним хозяином, и отводить самые хорошие пастбища для личных нужд вождей и других влиятельных людей. Кроме того, поскольку население страны росло, а в сельском хозяйстве стал применяться более производительный плуг, запряжённый быками, среди деревенских жителей неминуемо должны были появиться лентяи, уклонявшиеся от работы на общественной земле. С этим пытались бороться, разделив поле на множество узких полос и закрепив несколько таких полос за каждым семейством, которое несло ответственность за то, чтобы земля была обработана подобающим образом. Поначалу весь урожай, собранный на таких полосках земли, по-прежнему являлся общинной собственностью, то есть принадлежал всей деревне, но обязанности всегда влекут за собой права, и наделы постепенно стали считаться собственностью тех, кто их обрабатывал, а зерно с каждого надела доставалось тому семейству, за которым он числился.
Читать дальше