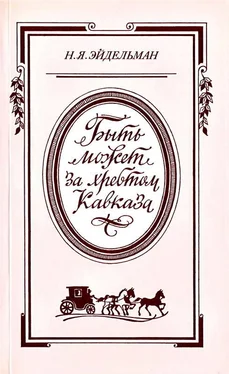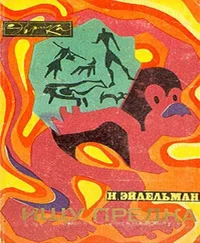«Записка» представляет собой шесть сшитых двойных листов (24 страницы писарского текста, расположенного на правой половине, с большими полями, занимающими левую половину каждого листа). В конце писарского текста подписи Грибоедова и Завилейского, а также помета «г. Тифлис 7 сентября 1828 г.», причем цифра 7 в дате вписана позднее, теми же чернилами, что и подпись Грибоедова. Существование автографа, кажется, не стало достоянием науки, так как грибоедовская «Записка» во всех собраниях писателя публикуется по тексту «Русского вестника» (притом подлинный документ, как это видно по «листу использования», изучался рядом специалистов, ссылку см., например, [Шостакович, с. 275]). Подлинник «Записки» отличается от текста «Русского вестника» особенностями написания отдельных слов, разбивкой текстов, осуществляемой «просветами» между строками и т. п.
Кроме того, на полях имеются пометы и отчеркивания, лишь частично учтенные в публикации Мальшинского.
Рукопись на 57 листах кроме замечаний, прямо связанных с соответствующими буквенными пометами на полях вступительной «Записки» к проекту (от a до i ), содержит еще ряд замечаний (помеченных латинскими и русскими литерами), относящихся к недошедшему тексту самого проекта. Полное научное издание грибоедовской «Записки» требует тщательного изучения замечаний: как фрагментов, опубликованных Мальшинским, так и другой их редакции (опубликованной О. П. Марковой).
Тексты пяти писем Грибоедова к П. А. Катенину (в том число письмо с арабской строкой) были опубликованы в 1858 и 1860 г. Их предоставил издателям родственник писателя Михаил Катенин; дальнейшая судьба автографов неизвестна; лишь одно письмо Грибоедова к Катенину хранится ныне в Отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина; в конце XIX в. им обладал В. И. Пахомов, внучатый племянник Катенина.
Их видели перед самой Великой Отечественной войною в Эстонии, где жили и живут прямые потомки Фаддея Венедиктовича. В 1941–1944 гг. в оккупированном Таллине кипами булгаринских бумаг, говорят, долго растапливали печи в одном из домов (а в булгаринском архиве, без сомнения, были тексты о Пушкине, Грибоедове, декабристах; возможно, и подлинные их материалы).
Вопрос о сознательной «подмене автора», о стремлении Тынянова понять жизненные планы, трагедию Грибоедова, присматриваясь и к его отношениям с Булгариным, — все это вызвало несколько лет назад небольшую (устную) дискуссию, стимулированную автором данной работы. Резюме высказанных мнений насчет замены Катенина Булгариным таково:
Л. ( историк ): Тынянов понадеялся на память, не проверил — это бывает.
Ч. ( филолог ), С. ( физик ): Смешно даже подумать, что Тынянов мог перепутать : он, можно сказать, наизусть знал грибоедовское наследие (увы, не слишком большое).
К тому же письмо с арабской строчкой, выделяющееся из других! Ведь, когда дело дошло до типографии, Юрию Николаевичу надо было отнести, показать, объяснить: «Вот эту строчку снимите факсимильно». Тут приходилось все время обращаться к собранию сочинений Грибоедова, регулярно просматривать письмо Катенину.
Вероятность тыняновской ошибки примерно такова как если б он написал: «Я помню чудное мгновенье… (Лермонтов)».
Филолог В. Тынянов все-таки забыл, потому что очень хотел забыть! Во всей переписке Грибоедова с Булгариным, как видно, не нашлось столь подходящих строк — и чтобы Восток в них был, и о дружбе, и о несчастье… Такие строки нашлись только в письме к Катенину. Тынянов, однажды это заметив, может быть, решил, что они уж очень подходят , после думал о них как о художественном выражении своей мысли: Катенин в романе не появляется, и, если бы под эпиграфом стояло: «Грибоедов. Из письма к Катенину», выстрел был бы слабее во много раз. Зато как звучит — «к Булгарину!»… Очень желаемое незаметно, не в памяти, а в художественном мышлении автора, перешло в действительное. И вообще, отлично зная, кому писано, Тынянов при «изготовлении» эпиграфа об этом знать не хотел, а потому — не знал, забыл.
Автор ( возражая филологу В. ): После первой публикации романа Тынянов прожил более 15 лет. За это время «Смерть Вазир-Мухтара» переиздавалась шесть раз. Было время самому автору заметить ошибку (разные издания романа имеют вообще ряд отличий), но Тынянов не счел нужным заметить. Было время и у квалифицированных читателей обнаружить подмену Катенина Булгариным. В архиве Тынянова сохранилось письмо И. Ю. Крачковского от 27 января 1930 г., где востоковед благодарил Тынянова за присылку второго издания «Смерти Вазир-Мухтара» (сообщено автору Е. А. Тоддесом). К сожалению, из переписки Крачковского с Тыняновым больше пока ничего не обнаружилось, и мы вольны гадать, как автор «Вазир-Мухтара» обосновывал свой эпиграф; но Крачковский был, кажется, недоволен; в 1941 г. всезнающий академик собрал многочисленные обращения к аль-Мутанабби позднейших авторов [Крачковский, т. II, с. 548–562]. Грибоедов, разумеется, упомянут, Леонид Леонов тоже, о Тынянове же — ни слова; Крачковского, по всей видимости, смутила тыняновская переадресовка известного письма.
Читать дальше