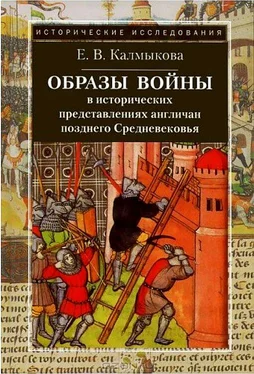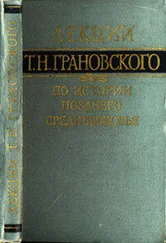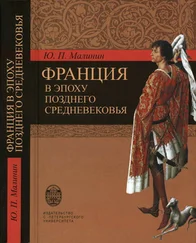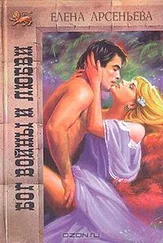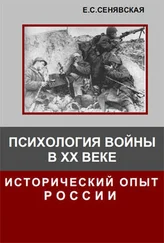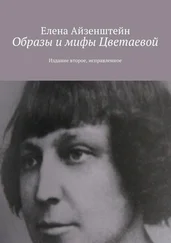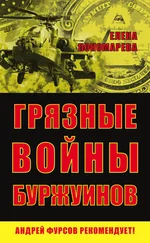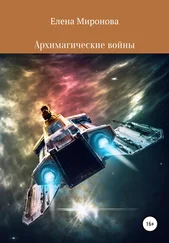Завершая предисловие, я хочу пояснить причину, по которой решила посвятить эту книгу памяти знаменитого бриганда и капитана английских наемников сэра Роберта Ноллиса. С одной стороны, Ноллис отнюдь не является центральным героем повествования, более того, его образу и подвигам в работе уделено всего несколько страниц. Но, с другой стороны, с его именем связаны если не все, то, во всяком случае, очень многие ключевые сюжеты исследования: реальная биография Ноллиса прекрасно демонстрирует индивидуальные возможности, которые война открывала перед предприимчивыми «солдатами удачи», в то время как его историографический образ не только является плодом коллективных представлений англичан о «типичном» английском воине, но также отражает массовые представления о конкретной войне — войне, которую английские короли вели за французскую корону. Для меня были чрезвычайно интересны как реальные модели поведения людей вроде Роберта Ноллиса, так и их восприятие в традиции. Задумав книгу об исторических представлениях англичан о войнах позднего Средневековья, а также об английской национальной идентичности в эту эпоху, в какой-то момент я осознала, что Роберт Ноллис является типичным героем не только своего времени, но и моего повествования.
Часть I
Англия в борьбе за «справедливость»
Глава 1
Идея ведения справедливой войны в английском историописании XIV–XVI вв
Оформление представления о причинах «справедливой войны» к началу XIV в.
В средневековой традиции понимание идеи «справедливой войны» (bellum iustum) опиралось на две взаимосвязанные категории: ius ad bellum и ius in bello . [7] Детальный анализ этих категорий приведен в трудах Дж. Джонсона: Johnson J. T. Ideology, Reason, and the Limitation of War: Religious and Secular Concepts, 1200–1740. Princeton, 1975. P. 5–11; Idem. The Quest for Peace: Three Moral Traditions in Western Cultural History. Princeton, 1987. P. 50–66, 75–91.
Первая касалась права вести войну (то есть условий, при которых война и связанное с ней кровопролитие переставали восприниматься как грех или преступление, становясь законной и даже священной акцией), вторая — поведения на войне (традиций и правил, регламентирующих взаимоотношения противников, отношение к мирному населению, прежде всего священнослужителям, женщинам, детям и старикам, действия на охваченных войной территориях; сюда же входит и «кодекс рыцарской чести»). Сам термин «справедливая война» был введен в оборот Аристотелем для описания войн, которые греки вели с другими народами. [8] Аристотель . Политика / Пер. С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1975–1983. Т. 4: I, 7, 1255a, 1255b; I, 9, 1256b; VII, 14, 1333a, 30–35; 133b, 37–1334a, 3–15; Аристотель . Никомахова этика / Пер. И. В. Брагинской // Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1975–1983. Т. 4: X, 7, 1177b, 9–11. См. также: Russell F. H. The Just War in the Middle Ages. Cambridge, 1975. P. 2; Nussbaum A. Just War — A Legal Concept? // Michigan Law Review. Vol. XLII (1943). P. 453.
Ставя на первое место войну оборонительную, направленную на защиту граждан полиса, Аристотель определял «справедливость» захватнических войн исходя из достоинств народов, против которых они велись. [9] Аристотель . Политика. VII, 37–1334а: «О военных упражнениях граждан нужно заботиться не ради того, чтобы они поработили тех, кто этого не заслуживает, но для того, чтобы прежде всего они сами не попали в рабство к другим, затем чтобы они стремились достигнуть гегемонии на пользу подвластным, а не ради приобретения деспотической власти над всеми, наконец, в-третьих, чтобы они стремились к деспотической власти только над теми, кто заслуживает быть рабом».
В римском праве для ведения справедливой войны требовалось соблюдение двух непременных условий: провозглашение ее законной властью (то есть от имени сената и римского народа [10] Цицерон . Об обязанностях / Пер. В. О. Горенштейн // Марк Тулий Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1993: I, 36: «Понятие справедливой войны было строжайше определено фециальным уставом римского народа»; Berger A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law // Transactions of the American Philosophical Society. Vol. XLIII (1953): Bellum (P. 372); Repetitio rerum (P. 675); Lex de bello indicendo (P. 550); Indicere bellum (P. 449); Denuntiare bellum (P. 431); Indictio belli (P. 499); Fitiales (P. 40); Ius fetiale (P. 528).
) и наличие справедливой причины: возвращение утраченного, [11] Цицерон . Об обязанностях. I, 36: «…справедливой может быть только такая война, которую ведут после предъявления требований или же предварительно возвестив и объявив».
оборона территории [12] Цицерон . О государстве / Пер. В. О. Горенштейн // Марк Тулий Цицерон. Диалоги. М., 1994: III, XXIII, 35: «Но наш народ, защищая своих союзников, уже покорил весь мир».
или же защита чести и безопасности государства. [13] Там же: «…несправедливы те войны, которые были начаты без оснований. Ибо если нет оснований в виде отмщения или в силу необходимости отразить нападение врагов, то вести войну справедливую невозможно… Ни одна война не считается справедливой, если она не возвещена, не объявлена, не начата из-за неисполненного требования возместить нанесенный ущерб». Там же. III, XXIII, 34: «Наилучшее государство никогда само не начинает войну, кроме тех случаев, когда это делается в силу данного им слова или в защиту своего благополучия».
Любая не соответствующая указанным условиям война считалась безнравственной и подлежала осуждению. [14] Russell F. H. The Just War… P. 6.
Эти ограничения оставались определяющими характеристиками справедливой войны и в Средние века, хотя христианская мысль и привнесла несколько важных дополнений. Несмотря на то что влияние римского права на английскую средневековую юриспруденцию было менее значительным, чем на континенте, [15] Low B. Imagining Peace: А History of Early English Pacifist Ideas, 1340–1560. Pennsylvania, 1997. P. 21.
основные положения римской теории справедливой войны были хорошо известны английским теологам и юристам через положения канонического права.
Читать дальше