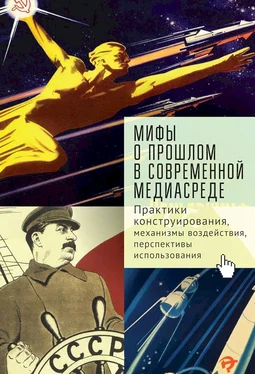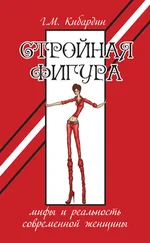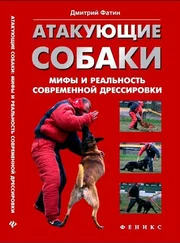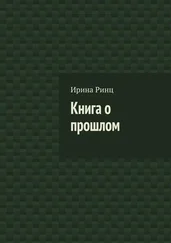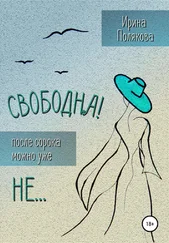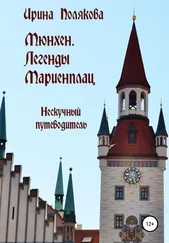Повседневность имеет свою структуру ценностей, которая «… тесно связана с важными изменениями в социальном опыте, происходящими в XX веке» [86] Шапинская Е. Н. Повседневное как динамическое пространство современной культуры // Культурное наследие: от прошлого — к будущему. Т. 6 Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак. — М.: Новый хронограф; СПб.: Эйдос, 2009. С. 218.
. Так как структура повседневной жизни складывается в кругу семьи, коллег и друзей навыки пользования современной техникой, как правило, приобретаются внутри данного ближнего круга. Помимо этого, знания о чужой повседневной жизни и о том, чем она наполнена мы можем получать из масс-медиа, приобщаясь к незнакомой культуре, чему — то удивляясь, а что — то и заимствуя (например, блюда японской кухни, интерьерный стиль Прованс и т. п.). Сфера повседневности является тем социальным пространством, где происходит аккультурация медиатехнологий, когда техника из непонятной новинки превращается в значимый предмет, а ее использование — в потребность. Те социокультурные образцы, которые в данный период времени на групповом или общесоциальном уровне принимаются как наиболее значимые для организации повседневной жизнедеятельности людей представляют собой ценности повседневной жизни. Культурные ценности всегда носят групповой характер, будучи продуктом коллективного, а не индивидуального опыта. В повседневной культуре ценности часто утверждаются через медиакультуру, в частности через рекламу. В популярном сознании та или иная культурная ценность занимает место в иерархии и ассоциируется с ее потребительскими качествами. Таким образом, ценности обыденного сознания во многом формируются масс-медиа.
Функционирование социального мифа в медиасреде придает общественной жизни, включая и такое ее измерение как повседневность, дополнительные характеристики. Речь идет, прежде всего, о том, что особая реальность масс-медиа, в которую погружается современный человек, несет в себе черты мифологической картины мира, где сакральное и профанное вновь обретают синкретичное единство; где мифологизационные процессы имеют не меньшее значение, что мифотворческая деятельность; где новые образы прошлого и будущего дополняют бесконечную суггестивность мира.
Для понимания механизма трансляции социального мифа необходимо взглянуть на него с позиций нескольких субъектов: живущий мифом («мифичный»), создатель мифа (мифотворец); критик мифа (мифолог) и, наконец, пространство масс-медиа. Такое понимание социального мифа сразу актуализирует несколько проблем, особенно важных для понимания механизма трансляции мифа в медиасреде — субъект и объект познания; означающее и означаемое; первичная и вторичная мифология. Для «мифичного» социальный миф является безусловной реальностью, неотъемлемой частью его картины мира; миф определяет здесь онтологические основы. Мифотворец акцентирует внимание на целях социального мифа и степени принятия социального мифа аудиторией (количестве «мифичных» относительно конкретного мифа), он, в некотором смысле, определяет этические аспекты мифа. Для мифолога определяющее значение имеют эпистемологические аспекты, средства познания социального мифа: комбинации различных теорий мифа, теоретические и эмпирические методы исследования — он ищет «истину мифа». Пространство же масс-медиа оказывается полем развертывания бытия социального мифа, неким контекстом, оказывающим влияние на содержание, наполнение каждого конкретного социального мифа; оказывается коллективным и в то же время анонимным автором, создателем или творцом мифологической реальности.
Рассмотрим, как нам видится процесс трансляции социального мифа. Схематично это можно представить следующим образом: (1) мифотворческая деятельность элит — (2) использование социального мифа как инструмента реализации властных функций — (3) учет социального контекста — (4) применение социального мифа в качестве призыва и руководства к действию — (5) тиражирование социальных мифов в виде шаблонов — (6) функционирование социальных мифов — (7) конкуренция социальных мифов / конкуренция мифотворцев (элит) — (1) появление новых мифотворцев (новой элиты). Ключевая роль, безусловно, принадлежит мифотворцам, в роли которых сегодня могут выступать далеко на только элиты.
Что же меняется в отмеченном выше механизме трансляции социального мифа, если пространством будет выступать медиасреда. С учетом развития коммуникационного пространства и его превращения фактически в «четвертого» субъекта мифа, соперничающего на равных, так сказать, с классическими мифотворцами, в роли которых выступают преимущественно элиты, можно диагностировать коренное изменение смысла «feedback». Явление «feedback», известное как обратное воздействие мифов на самих мифотворцев, обретает в пространстве масс-медиа поистине повсеместный характер и гибридные формы. Теперь оказывается практически невозможно обнаружить настоящего создателя социального мифа. Социальный миф эпохи современной коммуникационной революции, как и архаический миф далекой древности, не имеет автора. Он возникает вместе с разделяющей определенные ценности социальной группой; и в этом смысле похож на архаический миф, который появлялся одновременно с народом. Кроме того, следует добавить, что с совершенствованием средств массовой коммуникации тиражирование социальных мифов происходит гораздо более интенсивно: социальным мифам не обязательно теперь принимать форму шаблонов, достаточно, например, «привязать» то или иное повествование к автору, группе или событию в социальной сети.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу