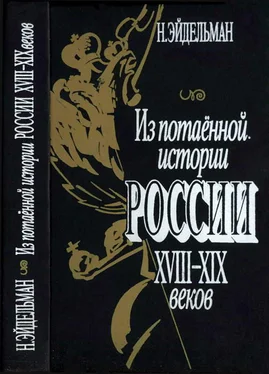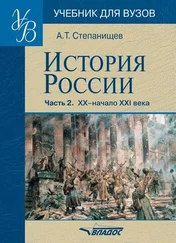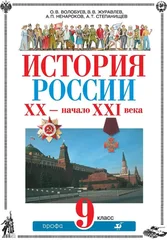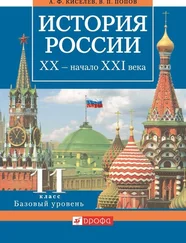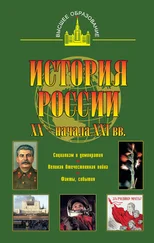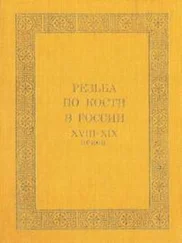Вот как он интерпретирует, например, пушкинскую строку из «Полководца»: «Народ, таинственно спасаемый тобою…» — по поводу споров современников о руководимом М. Б. Барклаем де Толли отступлении русской армии в 1812 г. и пророческие слова Карамзина о близости конца Наполеона, сказанные в трагический момент сдачи Москвы: «Поэт чувствует тайну, сложнейшую тайну той войны. <���…> Карамзин, Пушкин первыми эту тайну почувствовали, — Толстой, вероятно, первым эту тайну понял <���…> Подобная же тайна, несомненно, существует и для великой войны 1941–1945 годов…» Стало быть, тайна для Эйдельмана — это прежде всего «непроявленное прошлое» это, в конечном счете, еще не преодоленные трудности исторического познания.
Известные пушкинские слова о «странных сближениях» Эйдельман переосмыслил как определенный эвристический принцип. Он постоянно сталкивал отдаленные во времени вещи, внешне как будто бы между собой не связанные, проводя читателя через толщу веков и тысячелетий, населяя страницы своих книг множеством великих и заурядных имен и событий, колоритнейшими подробностями, старинными документами, легендами и т. д. из жизни Старого и Нового Света, Древнего Востока и античности, средневековья, Возрождения и последующих европейских столетий, — тут, конечно, «работала» его всеобъемлющая образованность. Это было для него, однако, не столько эффективным повествовательным приемом, сколько опять же способом «высечения» истины о прошлом, которое благодаря такому контрастному сопряжению «далековатых» событийных «блоков» представало стереоскопически-объемным, многоликим и многокрасочным.
Одно из самых характерных свойств «историософии» Эйдельмана — обостренное чувство исторического времени. Оно проявлялось, в частности, в прерывистой структуре его хронологического мышления и соответственно в напряженно-прерывистом ритме повествования. В отличие от большинства нынешних историков и старинных летописцев он обычно не выстраивал события в однолинейно-последовательный, мерно текущий ряд — нить времени у него то и дело обрывается, разветвляется, переносясь из сферы обитания его персонажей «вниз» и «вверх» по хронологической шкале с тем, чтобы снова вернуться в исходную точку, но уже обогащенной опытом разных эпох и оригинальными размышлениями по сему поводу автора.
Отсюда — смысловая многомерность числовых показателей исторического процесса или, по образному выражению А. П. Чудакова, «магия исторического числа» [22] Чудаков А. П. Указ. соч.
. Так, И. И. Пущин, по Эйдельману, в декабре 1856 г. вернулся после сибирского заточения в Москву, которую покинул в декабре 1825 г., не просто 31 год спустя, а «372 месяца назад». Или для него, скажем, было далеко не безразлично, что С. И. Муравьев-Апостол прожил именно 10 880 дней, а XVIII век состоит из 36 525 дней — это заставляло как-то иначе взглянуть на хронологическое наполнение и пределы существования человека в истории.
Важно при этом, что ощущение времени органически сопрягалось с пространственными координатами исторического процесса и вообще с пониманием относительности восприятия этих основополагающих параметров человеческого бытия в разные эпохи. В данной связи, мне кажется, название вступительной статьи Н. Н. Покровского в книге «„Революция сверху“ в России» — «В пространстве и времени», как нельзя более удачно передает сам стиль эйдельмановского историзма, его соответствие современным научно-философским представлениям.
Приметами этого стиля густо насыщена, например, книга «Грань веков» — крупное явление и современной исторической прозы, и обширной историографии российского абсолютизма.
«Особо торжественной встречи нового столетия ни в 1800-м, ни в 1801-м не происходило (в отличие от 1901-го и — угадываем — 2001-го!)», — констатирует Эйдельман на первых же страницах своего повествования и тут же поясняет: «В то время не придавали значения „мелким делениям“ — минуте, секунде: у большинства жителей, ложившихся с темнотой, поднимавшихся с рассветом, ни стенных, ни каких других часов не было и в помине. В тех же домах, что жили по часам, знали только свое время: в самом деле, как сверить, согласовать стрелки, маятник в столице, на Волге, в Сибири, на Камчатке — не по радио же? Одновременность была в ту пору растянутой; то, что происходило сей час на другом краю планеты, плохо воспринималось как синхронное, и, скажем, накануне рождения Пушкина „Московские ведомости“ от 25 мая 1799 г. печатали столичные известия от 19 мая, из Италии — апрельские, из Нового Йорка — мартовские». Правительственный же курьер, отправленный из Петербурга с извещением о смерти Екатерины II (6 ноября 1796 г.), только через 34 дня преодолел расстояние в 6 тыс. верст до Иркутска — отсюда, по неожиданному наблюдению Эйдельмана, и такой парадокс русской жизни конца XVIII в., что город этот больше месяца пребывал под властью умершей императрицы [23] Эйдельман Н. Грань веков. М., 1982. С. 6, 8.
.
Читать дальше