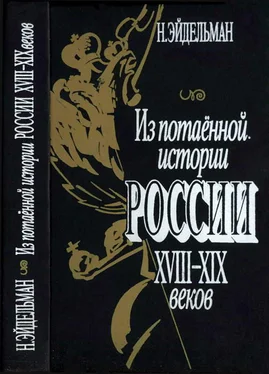Таким образом, в 30–50-х годах XIX в. русское общество уже слыхало о мемуарах императрицы, но почти никто не читал их. А. И. Герцен писал: «Константин Арсеньев […] говорил мне в 1840 г., что им получено было разрешение прочесть множество секретных бумаг о событиях, происходивших в период от смерти Петра I и до царствования Александра I. Среди этих документов ему разрешили прочесть „Записки“ Екатерины II (он преподавал тогда новую историю великому князю, будущему наследнику престола)» [84] Герцен А. И. Собрание сочинений. Т. XIII. С. 379.
. Стремление передовой русской общественности раскрыть государственные тайны, темные факты и обстоятельства, которых власти стыдились и пытались скрыть, было весьма характерно для русского освободительного движения. Публикуя записки И. В. Лопухина, А. И. Герцен писал: «Всякое правдивое сказание, всякое живое слово, всякое свидетельство, относящиеся к нашей истории за последние сто лет, чрезвычайно важно. Время это едва теперь начинает быть известным. Времена татарского ига и московских царей нам несравненно знакомее царствований Екатерины, Павла. История императоров — канцелярская тайна, она была сведена на дифирамб побед и риторику подобострастия» [85] Герцен А. И. Собрание сочинений. Т. XIV. С. 296.
.
В этой борьбе казенной тайны и гласности Вольная русская типография одержала ряд решительных побед над самодержавием: кроме громадного количества материалов о современных злоупотреблениях и государственных тайнах, было издано значительное количество воспоминаний и документов о декабристах, петрашевцах, об убийстве Павла I, о временах Екатерины II и Александра I. Благодаря герценовским изданиям были обнародованы запретные материалы, вышедшие из-под пера таких различных (и одинаково преследуемых) исторических деятелей, как А. Н. Радищев и М. М. Щербатов, И. Д. Якушкин и М. С. Лунин, И. В. Лопухин и В. Н. Каразин, Е. Р. Дашкова и Н. С. Мордвинов. Среди этих открытий вольной печати видное место принадлежит мемуарам Екатерины II. А. И. Герцен сохранил тайну приобретения и обнародования «семейного» документа самодержавия; прошло много времени, прежде чем удалось узнать об этом некоторые подробности.
Впервые об истории публикации «Записок» написала в 1894 г. Н. А. Тучкова-Огарева: «В 1858 г. […] приехал к Александру Ивановичу один русский N. N. Он был небольшого роста и слегка прихрамывал. Герцен много с ним беседовал. Кажется, он был уже известен своими литературными трудами […]. После его первого посещения Герцен сказал Огареву и мне: „Я очень рад приезду N. N., он нам привез клад, только про это ни слова, пока он жив. Смотри, Огарев, — продолжал Герцен, подавая ему тетрадь, — это записки императрицы Екатерины II, писанные ею по-французски; вот и тогдашняя орфография — это верная копия“. Когда записки императрицы были напечатаны, N. N. был уже в Германии и никто не узнал об его поездке в Лондон […]. Из Германии он писал Герцену, что желал бы перевести записки эти на русский язык. Герцен с радостью выслал ему один экземпляр, а через месяц перевод был напечатан Чернецким; не помню, кто перевел упомянутые записки на немецкий язык и на английский; только знаю, что записки Екатерины II явились сразу на четырех языках и произвели своим неожиданным появлением неслыханное впечатление по всей Европе. Издания быстро разошлись. Многие утверждали, что Герцен сам написал эти записки; другие недоумевали, как они попали в руки Герцена. Русские стремились только узнать, кто привез их из России, но это была тайна, которую, кроме N. N., знали только три человека, обучившиеся молчанию при Николае» [86] Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. Л., 1929. С. 218–220.
.
«Три человека, наученные молчанию при Николае», — возможно, Герцен, Огарев и сама Тучкова-Огарева. О том, кто такой N. N., в конце XIX — начале XX в. начинали догадываться. Публикуя сообщение Н. А. Тучковой-Огаревой, что корреспондента А. И. Герцена «уже нет на свете», А. Н. Пыпин и Я. Л. Барсков сделали примечание: «Автор „Воспоминаний“ ошибается» [87] См.: Сочинения императрицы Екатерины II. Т. XII. С. 709.
. «Подозрения» специалистов пали на известного историка, издателя «Русского архива» П. И. Бартенева (1829–1912). Действительно, когда публиковались воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой и академическое издание «Записок» Екатерины II, П. И. Бартенев был еще жив. Позже мнение о П. И. Бартеневе как корреспонденте А. И. Герцена выдвигал М. П. Алексеев [88] Алексеев М. А. Пушкин и библиотека Воронцова // Пушкин. Статьи и материалы. Одесса, 1926. Вып. II. С. 96–97.
(подчеркивалось, что П. И. Бартенев был как раз маленького роста и прихрамывал). В 1951 г. Л. Б. Светлов обратил внимание на подробный рассказ в дневнике Бартенева о вскрытии секретного архивного сейфа, производившемся Ф. Ф. Гильфердингом в 1855 г. по поручению Александра II. Гильфердинг как раз разыскивал для нового царя «Записки» Екатерины II, а Бартенев, служивший в Архиве иностранных дел, очевидно, помогал Гильфердингу в розысках и имел возможность снять копию [89] Светлов Л. Б. Из разысканий о деятельности А. И. Герцена // Известия АН СССР. Серия истории и философии 1951. Т. VIII. № 6. С. 542–544.
. К этому следует добавить, что Бартенев был близок с семьей Гильфердингов и мог получить соответствующее разрешение от самого Ф. Ф. Гильфердинга, главного архивариуса империи.
Читать дальше