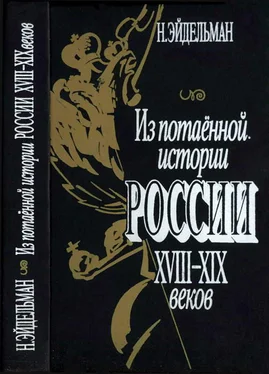Итак, скорее — Елисавета…
Образ прекрасной принцессы возвращал в мир старинной сказки, где юная красавица ждет избавителя, а злобная колдунья тому препятствует…
Мы уверенно предполагаем разнообразнейшие чувства, мысли, ассоциации поэта, сопутствовавшие его трем фразам о холмогорском путешествии Бибикова: здесь и природа власти, и трагедия детей, виновных только в том, что родились в царской семье (как Федор и Ксения Годуновы).
Невозможно, немыслимо представить, чтобы поэт, заметивший, что Бибиков «без памяти влюблен» при выполнении секретнейшей политической акции, не задал вопроса себе и другим: а что же дальше было?
Судьба Бибикова до самой его кончины представлена в «Истории Пугачева». Сочувствие Пушкина к этому деятелю, доходящее до идеализации, несомненно. Общие контуры, основные даты брауншвейгской судьбы поэту тоже известны: «страшный гороскоп» Эйлера обнаруживает не только направление пушкинских мыслей, но и специфический интерес к потаённому событию у Н. К. Загряжской и других информаторов Пушкина.
Поэтому стасовская рукопись 1860-х годов как бы отвечает на вопрос, задаваемый пушкинским 8-м «Замечанием»; нам, конечно, нелегко определить, что именно знал Пушкин из потрясающей шекспировской хроники о жизни холмогорских узников после отъезда Бибикова, что он мог слышать, предположить, вообразить…
1760-е годы
После отъезда Бибиковаположение «известных персон», в сущности, ухудшается. В предыдущие двадцать лет не было никаких перспектив на улучшение, теперь же Екатерина II подала узникам большие надежды. Меж тем секретность их содержания даже увеличивается. На всякий случай пишутся инструкции, как хоронить «любого умершего из семьи»: пастора не присылать, отпевать ночью, «на молитвах и возгласах в церкви никак их не поминать, как просто именем, не называя принцами». Когда понадобилось в Холмогорах переделать печи в доме-тюрьме, Петербург строго предписывал, «чтоб печники известных персон не видали».
1764 год: попытка офицера Мировича освободить из Шлиссельбургской крепости Ивана Антоновича. Дело кончается гибелью на 25-м году жизни бывшего императора (а ведь попал в заключение полуторагодовалым).
Мирович казнен. В Холмогорах же, вероятно, очень долго и не знали о гибели сына и брата! После этой истории (возможно, спровоцированной Екатериной II) шансы холмогорских принцев на освобождение сильно уменьшаются; время от времени архангельские власти получают из столицы предупреждения и даже приметы «шпионов», направляющихся в Холмогоры.
В мире происходят разнообразные события: французское Просвещение — Руссо, Вольтер, Дидро; американская революция; открытия Бугенвиля, Кука в Тихом океане… Однако принц Антон и его дети не имеют права всего этого знать. Меняются коменданты, охрана пьянствует, ворует, архангельский губернатор Головцын докладывает, что «каменные покои тесны и нечисты».
1767 год: ревизия губернатора, явно жалеющего узников. Принцесса Елисавета высказалась при нем «с живостью и страстью» и, «заплакав на их несчастную, продолжаемую и поныне судьбину, не переставая проливать слезы, произносила жалобу, упоминая в разговорах и то, будто бы они, кроме их произведения на свет, никакой над собой винности не знают, и могла бы она и с сестрою своею за великое счастье почитать, если бы они удостоены были в высочайшую вашего императорского величества службу хотя взяты быть в камер-юнгферы (придворный чин. — Ред. )? Головцын „их утешал, и они повеселели“».
Позже мягкосердечный губернатор изыщет оригинальный способ воздействия на Екатерину, Никиту Панина и других советников: в форме доноса, передавая разговоры, якобы подслушанные его агентами от принцев, он сообщает разные их лестные высказывания в адрес царицы.
Головцын верно рассчитал, что донос, секретная информация будут прочтены наверху быстрее всего, но никаких облегчений не последовало.
25 мая 1768 год: принц Антон обращается к Екатерине II. Он просится с детьми за границу и клянется «именем бога, пресвятой троицей и святым евангелием в сохранении верности вашему величеству до конца жизни»; при этом вспоминает милостивое письмо Екатерины в 1762 г., «и в особенности уверения в вашей милости генерала Бибикова, чем мы все эти годы утешали и подкрепляли себя»; 15 декабря того же года Антон-Ульрих заклинает царицу «кровавыми ранами и милосердием Христа» через два месяца еще одно письмо — никакого ответа не последовало.
Читать дальше