Но зачем (даже в середине XVIII века!) украшать и придумывать письма?
А затем, что в ту пору на это смотрели во многом иначе, чем в наше время и даже во времена князя Кавкасидзева. История еще не полностью отделилась от литературы. Принцип строгой научности еще не вытеснил окончательно наивное своеволие древних летописцев, вводивших в чужие тексты различные вставки и вовсе не подозревавших, что это «нельзя…».
Приведем недавно опубликованное интересное рассуждение на эту тему крупных современных специалистов: в статье под названием «Историк-писатель или издатель источников?» Е. М. Добрушкин и Я. С. Лурье обсуждали сложный вопрос об «Истории Российской» В. Н. Татищева (1686–1750), где имеются спорные и сомнительные места, иногда рассматриваемые как фальсифицированные, присочиненные… «Даже если мы придем к выводу, — пишут авторы, — что те или иные известия не заимствованы Татищевым из древних памятников, а принадлежат ему самому, это вовсе не будет равносильно обвинению историка в „недобросовестности“ или „нечестности“ и уж тем более никак не поставит под сомнение ценность „Истории Российской“…» [50] Русская литература. 1970. № 2. С. 224.
Если Андрей Гри… действительно скомпилировал и украсил из лучших побуждений для фельдмаршала Румянцева отрывки из писаревского перевода Катифора, если он это сделал, то уж придумать самому «письмо его (Александра Румянцева) руки» к Ивану Дмитриевичу, разумеется, никак не мог. Значит, если составителем — компилятором документов был Андрей Гри…, тогда письмо № 1 (к Ивану Дмитриевичу) становится реальностью.
А письмо № 2 об убийстве царевича Алексея?
Если рассуждать очень строго, то реальность письма № 1 еще не доказывает подлинности письма № 2: его ведь могли подделать, руководствуясь именно первым документом… Но тут мы уж заходим слишком далеко: фактов нет, всяческие умозрительные построения слишком легки, а история наша не закончена…
Зачем же было ее рассказывать?
Да затем, во-первых, чтоб показать, как порою мучительно трудно продвигаться историкам даже по сравнительно недавним столетиям; затем, чтобы напомнить об исторических тайнах (а следствие, суд и смерть Алексея еще во многом таинственны); рассказать о жизни этой тайны в сознании следующих поколений, о том, как и во времена Вольтера, и при Пушкине, и в 1860-х годах дело Алексея было предметом жестоких дискуссий, связанных с самой современной темой, темой важных размышлений о том, как должна писаться история, и о том, когда же события прошлого выносятся на «суд последней инстанции».
Наука и жизнь. 1971. № 9, 10.

«Счастья баловень безродный…»
 Александр Данилович Меншиков — фигура всем известная: почти нет книг и статей о Петре Великом без Меншикова — второго человека после царя-преобразователя, «герцога Ижорского, светлейшего князя Римской империи и Российского государства, генералиссимуса, верховного тайного действительного советника, рейхсмаршала, президента Военной коллегии, адмирала красного флага, санкт-петербургского губернатора, кавалера русских и иностранных орденов».
Александр Данилович Меншиков — фигура всем известная: почти нет книг и статей о Петре Великом без Меншикова — второго человека после царя-преобразователя, «герцога Ижорского, светлейшего князя Римской империи и Российского государства, генералиссимуса, верховного тайного действительного советника, рейхсмаршала, президента Военной коллегии, адмирала красного флага, санкт-петербургского губернатора, кавалера русских и иностранных орденов».
Через сто лет после его смерти любопытство потомков приведет к двукратному вскрытию предполагаемой могилы Меншикова в Березове, когда тобольский губернатор и известный ученый Д. Н. Бантыш-Каменский распорядится «выдернуть из бровей покойного несколько волос, поместить их в пробирку со спиртом и отправить ее вместе с башмаком родственникам в столицу». (За эту инициативу губернатор получит царский выговор, а позже еще откроется, что могила не Меншикова, а, вероятно, его дочери.) «Светлейший» и до того, и после постоянно волнует воображение многих славных мастеров: «Счастья баловень безродный, полудержавный властелин» появляется на страницах пушкинских стихов и прозы, на знаменитой картине Сурикова, в «Петре Первом» Алексея Толстого, в «Восковой персоне» Тынянова; миллионам запомнился на киноэкране в исполнении Михаила Жарова…
Можно ли сегодня отыскать нечто существенно новое о столь заметном и уж третье столетие «наблюдаемом» политическом деятеле?
Можно и должно — отвечает советский историк Н. И. Павленко своею книгой «Александр Данилович Меншиков», выпущенной издательством «Наука» под редакцией и с предисловием академика А. П. Окладникова [51] Павленко Н. И. Александр Данилович Меншиков. М., 1981.
.
Читать дальше
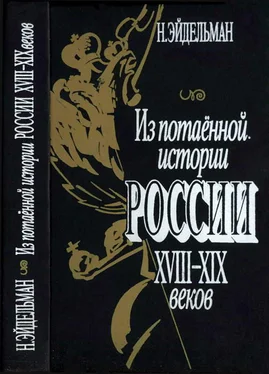

 Александр Данилович Меншиков — фигура всем известная: почти нет книг и статей о Петре Великом без Меншикова — второго человека после царя-преобразователя, «герцога Ижорского, светлейшего князя Римской империи и Российского государства, генералиссимуса, верховного тайного действительного советника, рейхсмаршала, президента Военной коллегии, адмирала красного флага, санкт-петербургского губернатора, кавалера русских и иностранных орденов».
Александр Данилович Меншиков — фигура всем известная: почти нет книг и статей о Петре Великом без Меншикова — второго человека после царя-преобразователя, «герцога Ижорского, светлейшего князя Римской империи и Российского государства, генералиссимуса, верховного тайного действительного советника, рейхсмаршала, президента Военной коллегии, адмирала красного флага, санкт-петербургского губернатора, кавалера русских и иностранных орденов».










