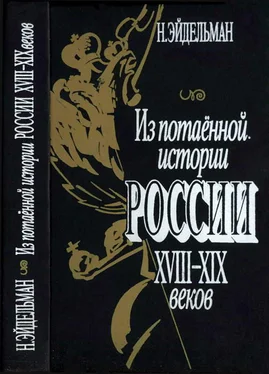Вольтер, который, занимаясь русской историей, старался не ссориться с петербургскими властями, все же писал 9 ноября 1761 г. Шувалову: «Люди пожимают плечами, когда слышат, что 23-летний принц [48] Вольтер на 5 лет «уменьшает» возраст Алексея.
умер от удара при чтении приговора, на отмену которого он должен был надеяться».
Однако и 140 лет спустя, в 1901 г., соотечественник Вольтера Мюрак свою пятиактную драму «Le Tsarevitch Alexis» завершал следующей сценой:
«Петр (бросаясь к умирающему царевичу и сжимая его в объятиях): Алексис, мой сын!..»
Наступил XIX век. 1812 год оставил в этой истории некоторый след, что отражено в старинном архивном документе: «Следственное дело о царевиче Алексее Петровиче и о матери его царице Евдокии Федоровне хранилось в особом сундуке, но в нашествие на Москву французов сундук сей злодеями разбит и бумаги по полу все были разбросаны; но по возвращении из Нижнего архива вновь описан и в особой портфели положены».
ИЗ ЗАПИСКИ ГРАФА БЛУДОВА ДЛЯ НИКОЛАЯ I:
«Суд несчастного царевича Алексея Петровича сопровождался розысками и последствиями, пробуждающими тяжкое воспоминание и тайна которого, несмотря на торжественность главных действий суда, может быть, и теперь еще не вполне раскрыта».
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НЕССЕЛЬРОДЕ — НИКОЛАЮ I
( 12 января 1832):
«Благоугодно ли будет вашему императорскому величеству, чтобы титулярному советнику Пушкину открыты были все секретные бумаги времен императора Петра I, в здешнем архиве хранящиеся, как-то: о первой супруге его, о царевиче Алексее Петровиче…»
А. С. ПУШКИН — М. П. ПОГОДИНУ:
«…Архивы… Сколько отдельных книг можно составить тут! Сколько творческих мыслей тут могут развиться!»
После гибели Пушкина тетрадь его архивных выписок была представлена в цензуру, и царь нашел, что «рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений на счет Петра Великого». Тетради были опубликованы и исследованы 100 лет спустя.
Среди записей Пушкина, между прочим, находим: «25 (июня 1718) прочтено определение и приговор царевичу в Сенате…
26 царевич умер отравленным».
Откуда узнал Пушкин об отравлении? Сюжет этот был еще столь опасен в то время, что лишь теперь с помощью криминалистов известный пушкинист И. Л. Фейнберг прочел тщательно зачеркнутые строки в дневнике переводчика Келера: «Пушкин раскрыл мне страницу английской книги, записок Брюса о Петре Великом, в которой упоминается об отраве царевича Алексея Петровича, приговаривая: „Вот как тогда дела делались“».
Пушкин верно понял, что именно так тогда дела делались, но подробности насчет отравления были недостоверны: записки Брюса считаются едва ли не подделкой конца XVIII в. Как видим, даже Пушкин, жадно вылавливавший каждую деталь тайной истории Петра, не смог прийти к ясной истине.
Через несколько лет этими же сюжетами занялся историк Н. Г. Устрялов — человек весьма благонамеренный и верноподданный, но притом усердный, дотошный исследователь. Пока царствовал Николай I, Устрялов издавал, по сути, не историю Петра, а документальный панегирик прапрадеду своего императора. Однако в конце 50-х годов, когда Николая уже не было и начиналось освобождение крестьян, когда повеяло более свободным, теплым воздухом и заговорила герценовская Вольная печать в Лондоне, — тогда-то Устрялов решился и выпустил в свет целый том, посвященный делу Алексея… [49] Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Спб. 1859. Т. VI. ( Ред. )
Герцен не пропустил этого обстоятельства и в одной их своих статей заметил: «Золотые времена Петровской Руси миновали. Сам Устрялов наложил тяжелую руку на некогда боготворимого преобразователя».
Перед выходом своей книги Устрялов отправился к профессору К. И. Арсеньеву, прежде читавшему русскую историю наследнику, чтобы «узнать у него наверное, как умер царевич»: «Я рассказал ему, — вспоминал потом Устрялов, — все как у меня написано, т. е. что царевич умер в каземате от апоплексического удара… Арсеньев мне возразил: „Нет, не так. Когда я читал историю цесаревичу, потребовали из государственного архива документы о смерти царевича Алексея. Управляющий архивом принес бумагу, из которой видно, что царевич 26 июня (1718) в 8 часов утра был пытан в Трубецком раскате, а в 8 часов вечера колокол возвестил о его кончине“».
Это была запись в гарнизонной книге Санкт-Петербургской крепости. Последовательность событий кажется достаточно ясной: царевича пытали утром его последнего дня, уже после приговора, и он оттого скончался…
Читать дальше