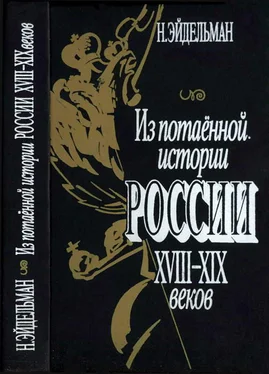Обозначив главные идеи и перечислив несколько фигур, Герцен к нашему удивлению, ряд значительных сочинений вообще не называет.
Ни слова о замечательном фон визинском «Рассуждении о непременных государственных законах»: оно ходило в списках по России, было известно декабристам, в орбиту же Вольной печати попадет только в 1861 г. — во второй книге «Исторического сборника Вольной русской типографии».
Не найти в герценовской работе имени Е. Р. Дашковой; ни звука о мемуарах Екатерины II, которые были известны в определенных осведомленных кругах.
Отсутствие М. М. Щербатова и его труда «О повреждении нравов в России» понятно: потаенное сочинение князя-историка было извлечено из небытия лишь несколько лет спустя. Однако наиболее заметный пробел — молчание о Радищеве!
Упомянут Герценом — да и то мельком — лишь один потаенный «мемуарист»: там, где говорится о Новикове, высоко оценивается его смелая мысль — «объединить во имя нравственного интереса в братскую семью все, что есть умственно зрелого, от крупного сановника империи, как князь Лопухин, до бедного школьного учителя и уездного лекаря!».
Иван Лопухин, правда, не был князем, но речь идет о нем!
Пройдет еще несколько лет, и Герцен сам же напечатает многие сочинения, о которых в 1851 г. слышал смутно или совсем не слышал:
Весна 1858 г., в одном томе — Щербатов и Радищев;
Конец 1858-го — начало 1859 г., на французском, русском, немецком, датском и польском языках — «Записки Екатерины II»;
1858 г., впервые на русском языке — «Записки княгини Дашковой» вместе с интереснейшими приложениями к ним (переписка Дашковой с Екатериной II, Дидро, Вольтером и многими другими деятелями).
В этом списке явно не хватало Николая Ивановича Новикова. Однако знаменитый журналист и издатель не оставил мемуаров.
Одним из немногих его сподвижников, успевшим сочинить записки, был Иван Владимирович Лопухин. В известном смысле он представлял на страницах вольных изданий Герцена также и своего друга-наставника. Но все же сенатор, масон был далек от революционного демократа, социалиста, материалиста Герцена.
Какие же мотивы связывали этих людей перед освобождением крестьян, против которого Лопухин возражал?!
Лопухин приближается
Перелистываем «Колокол» и другие вольные издания конца 1850-х годов. То тут, то там среди современных дел, как вспышки, — обращение к XVIII в., сравнение времен и людей.
Вот вспомянуты противники петровских преобразований, сторонники старины: «Московская Русь, казненная в виде стрельцов, запертая в монастырь с Евдокией, задушенная в виде царевича Алексея, исключилась бесследно, и натянутый, старческий ропот кн. Щербатова (который мы предали гласности) замолк без всякого отзыва».
Как не заметить, что в числе представителей Московской Руси названы близкие родственники Лопухина, царица Евдокия, царевич Алексей; Щербатов же, старший лопухинский современник, отчасти напоминал этого деятеля причудливым соединением внутреннего достоинства, политической смелости и притом защитой крепостничества и других отрицательных черт прошлого.
Меж тем в России продолжались ограничения и запреты на ряд сочинений XVIII в.; они были вызваны испугом властей тем общественным эффектом, который в 1859 г. произвела как раз публикация секретного дела царевича Алексея (в VI томе книги Устрялова «История царствования Петра I»).
15 мая 1860 г. в «Колоколе» в заметке «Новости из России» Герцен отозвался на «новости цензурные»:
«Устрялов напугал царевичем Алексеем… А посему цензура получила строжайшее указание ничего не пропускать о лицах, принадлежащих к царской фамилии и живших после Петра, кроме, разумеется, о их высочайшей добродетели и августейшем милосердии. Например, говоря о Петре III, надо непременно упомянуть о его уме, говоря об Екатерине II, удивляться ее целомудренности, говоря о Павле, с восторгом отозваться о его сходстве с Аполлоном Бельведерским, говоря о Николае, упрекнуть его в мягкой кротости и излишней любви к науке».
Через месяц, в сдвоенном 73–74-м листе «Колокола», уже приводился точный текст высочайшего повеления об ограничении свободы исторического рассказа «концом царствования Петра Великого»:
«После сего времени воспрещать оглашение сведений, могущих быть поводом к распространению неблагоприятных мнений о скончавшихся августейших лицах царствующего дома, как в журнальных статьях, так и в отдельных мемуарах и книгах».
Читать дальше