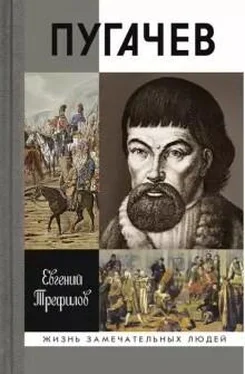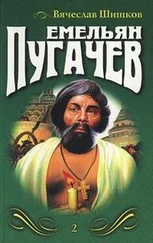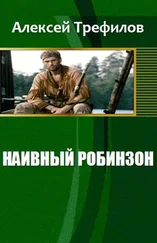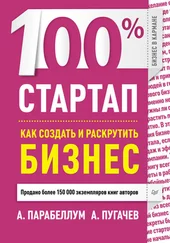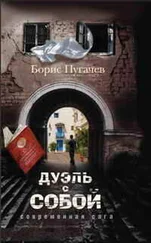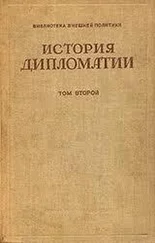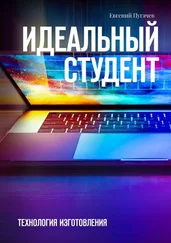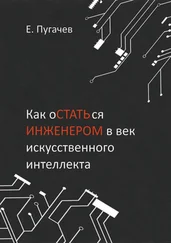Объяснение такому поведению бунтовщиков дал на следствии пугачевский сподвижник Тимофей Подуров: «Из поступок яицких казаков можно было приметить, что самозванец был раскольник, потому что оныя казаки в церквах над образами, который были написаны живописью или на то похожим, делали великия надругательства, выкалывая глаза, а иногда и совсем раскалывали и разрубали; но самозванец, будучи о том известен, казакам ничего за то не выговаривал и, по-видимому, попущал их на истребление оных икон». Уже упомянутый подпрапорщик Григорий Аверкиев свидетельствовал, как яицкие казаки приказали ему и другим пленным участникам отряда Чернышева «креститься двуперстным сложением (то есть по-старообрядчески. — Е. Т.), выговаривая при том, что естли кто будет иначе креститься, то батюшка, то есть самозванец, прикажет отрубить пальцы». Пугачев, как мы помним, не был старообрядцем, но в угоду яицким казакам неоднократно заявлял о своей приверженности к старой вере. Например, однажды «Петр Федорович» заявил, что во время странствий после переворота он «испытывал всякие веры, однако ж де лутчей вашей, господа яицкие казаки, нигде не нашел… и… намерен во всём государстве оную сделать» [440] Пугачевщина. Т 2. С. 188; РГАДА. Ф. 6. Д. 436. Л. 2 об.; Д. 506. Л. 270 об. См. также: Крестьянская война в России в 1773–1775 гг. Т. 3. С. 350, 351.
.
Можно было бы утверждать, что казаки, терроризируя никониан и разоряя их церкви, уже начали проводить в жизнь эту религиозную реформу, если бы не ряд немаловажных обстоятельств. Прежде всего, отнюдь не все современники пугачевщины видели в бунтовщиках кощунников и разорителей храмов. Так, илецкие священники Андрей и Степан Ивановы в доношении, поданном в 1774 году в Оренбургское духовное правление, писали, что Пугачев и его казаки, находясь в местной церкви Николая Чудотворца в сентябре 1773 года, «святым иконам поругания и во оной грабительства никакого не причинили». Эти попы служили торжественный молебен «Петру Федоровичу», и их можно было бы заподозрить в выгораживании бунтовщиков, но, насколько нам известно, никто из очевидцев пребывания Пугачева с войском в Илецком городке не упоминает о святотатстве и разграблении местной церкви. А вот свидетельство врага бунтовщиков Павла Степановича Рунича (во время восстания он был премьер-майором), в августе 1774 года шедшего буквально по их следам: «От города Курмыша Пугачев с войском своим потянулся к Алатырю, от онаго на Саранск, Пензу, Петровск, Саратов, Камышен-ку, станицу Дубовку и Царицын, оставляя за собою по всему сему краю, где протекал с 50 000 сволочи, грабеж, разорения, ужас и смерть, и всё то, что только имело название дворянина и чиновника, было убиваемо. Но, впрочем, ничто не касалось рукою убийства, грабежа и разорения до монастырей, храмов Божиих, священно- и церковнослужителей, но все онаго места и лица остались невредимы, даже в колониях кирхи и костелы католицкие». Пугачевский атаман И. Грязнов в одном из своих посланий также опровергал обвинения в разорении повстанцами церквей [441] Емельян Пугачев на следствии. С. 383; Записки сенатора Павла Степановича Рунича о Пугачевском бунте. С. 248; Документы ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. С. 272.
.
Отчасти наблюдения Рунича подтверждаются другими источниками. Например, из свидетельств представителей саратовского духовенства следует, что восставшие убили одного священника, но в то же время там нет и намека на разорение Церквей или надругательство над иконами. Да и убийство священника едва ли было вызвано ненавистью к духовенству; более того, есть основания полагать, что бунтовщики хорошо относились к священнослужителям. Из доношения саратовских протопопов Онисима Герасимова и Алексея Иродионова астраханскому и ставропольскому епископу Мефодию от 21 августа — 21 сентября 1774 года известно, что «села Никольскаго (Кологреевка тож) поп Прокофий Иванов, войдя в злодейския лагери, ходил по ним с крестом, требуя, по неимуществу якобы своему, подаянья». Батюшка не ушел от бунтовщиков с пустыми руками, получив в дар «в Саратове из лавок граб-ленное, множество лоскутков и разнаго товара, а также один церковный воздух [442] Воздух — здесь: матерчатый плат для покрытия Святых Даров.
»; причем он был никонианским священником — в противном случае протопопы обязательно подчеркнули бы его приверженность к расколу [443] См.: Саратов во время пугачевского восстания. С. 24–33.
.
Читать дальше