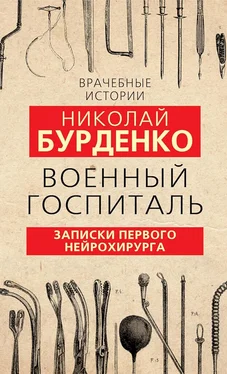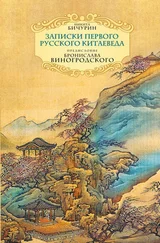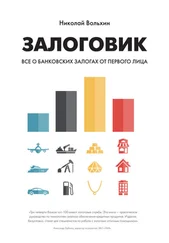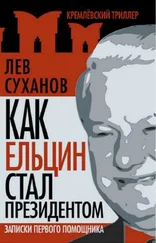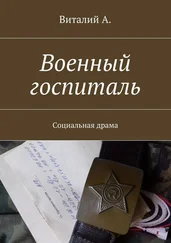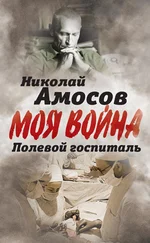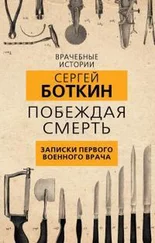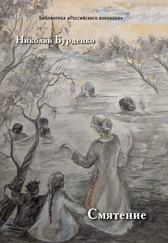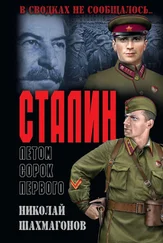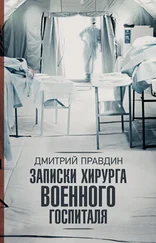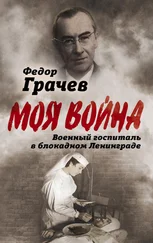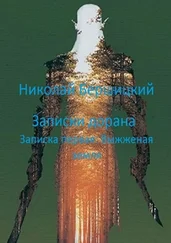Только по истечении двух лет войны Россия неожиданно узнала, что запасы ее почти иссякли, и что армия должна искать кадры для пополнения и укомплектования, выделяя из безмерно разбухшего тыла в боевую линию все, что годилось для пополнения строевых рядов и совершенно непроизводительно загружало и обременяло самый тыл. Ввиду такого положения члены бывшей Государственной думы и Государственного совета в числе 28 человек подали на имя царя записку, в которой указывали: «…Только за два года русская армия уже потеряла 5 500 000 человек, что принцип бережливости людской жизни не был в должной мере воспринят нашей армией и не был в ней достаточно осуществлен… В результате, в то время как у наших союзников размеры ежемесячных потерь их армий постепенно и неуклонно сокращаются, уменьшившись во Франции по сравнению с начальными месяцами войны почти вдвое, у нас они остаются неизменными и даже обнаруживается склонность к их увеличению».
Записка эта вызвала горячие возражения со стороны ставки и командующих фронтами и армиями.
Для нас здесь поучительно то, что врачебная работа в Первую мировую войну была плохо организована; врачи не подходили к раненому с точки зрения восстановительной хирургии; превентивная борьба с раневой инфекцией плохо осуществлялась, как и мероприятия, способные облегчить дальнейшее лечение.
Для иллюстрации нескоординированных действий войскового района, этапа и тыла я снова приведу осложненные переломы. Они проводились очень часто вредно для больного, так как игнорировались принципы восстановительной хирургии. В первый период войны на фронте весьма часто производились ампутации. Количество производившихся ампутаций достигало таких угрожающих размеров, что потребовалось вмешательство со стороны ответственных лиц. При моих контрольных объездах лазаретов Красного Креста и согласно информации головных пунктов, главным образом во время Лодзинской операции, выяснилось, что процент ампутаций при переломах бедра и отчасти голени достигал 26–32. Интересно, что и в других армиях высокий процент ампутаций привлек к себе внимание и вызвал определенную реакцию. Поразительно высокий процент ампутаций был в английской армии.
В чем здесь дело?
Во-первых, в недостаточно четких предвоенных общехирургических установках; во-вторых, в слабом знакомстве врачей с методами лечения открытых переломов, а также с этапными методами лечения, с правилами эвакуации и перспективами стационарного лечения. Для последнего я приведу следующий яркий пример. Один врач, работавший в тыловых учреждениях, пишет по поводу лечения огнестрельных переломов бедра следующее: «Удручающее впечатление производят раненые с осложненными огнестрельными переломами бедра, которые в числе 24 в короткий срок доставлены в нашу клинику. Половина из них вообще не имела никакой иммобилизации; незначительной толщины повязка была совершенно пропитана разложившимся зловонным гноем, который обильно вытекал по снятии повязки из пулевых отверстий. Все бедро сильно опухло; при дотрагивании отмечалась резкая болезненность. По расспросам оказалось, что не все, прибывшие без шин, вынуждены были эвакуироваться без иммобилизации из войскового района. В 12 случаях шины были сняты на этапах при смене повязок и не были наложены вновь. У тех же, у которых были гипсовые фиксирующие повязки, они были без окон, соответствующих входным и выходным отверстиям. Повязки были пропитаны разложившимся гноем, сильно пахли, и, что всего удивительнее, эти раненые имели сопроводительные таблицы с надписью: „Гипсовые повязки должны оставаться на раненом не менее трех недель“. Легко можно себе представить, что было под гипсовой повязкой у таких раненых!».
То же было и с повязками на верхних конечностях. Таков пример убийственной дезорганизованности и отсутствия установок!
А сколько было принесено напрасных жертв вследствие недоговоренности по поводу обязательности окончатых повязок!
Осложненные огнестрельные повреждения конечностей составляют в общей сложности 20–30 % ранений, и если вспомнить, что общая сумма ранений конечностей равна 60–65 % всех ранений, и что возврат в армию на строевую и тыловую службу падает именно на эту категорию ранений, то мы легко можем себе представить значение хотя бы только окон в гипсовой повязке. Уже эти примеры указывают на необходимость тесной неразрывной связи войскового района с этапами и тылом. Разве приведенные выше случаи со снятием шин на этапе и оставлением перелома без фиксации не должны квалифицироваться по статье Уголовного уложения как оставление раненого без помощи? Разве такой акт не портит и не аннулирует рациональной помощи передового района и не ставит в исключительно трудное положение хирургов тыловых районов?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу