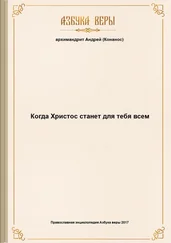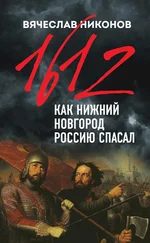Поэтому придумывались самые разные поводы и предлоги, чтобы затянуть созыв Учредительного собрания: предоставить возможность гражданам сделать максимально осознанный выбор, что требует времени; списки избирателей должны составить избранные на демократических началах органы самоуправления; в стране нет достаточного количества конвертов для избирательных бюллетеней и т. д. На самом деле никто не был уверен в исходе выборов в Учредительное собрание или, наоборот, был уверен всем ходом событий в неблагоприятном их исходе лично для себя.
«Как будто нельзя было выборы в Учредительное собрание провести одновременно с муниципальными и земскими выборами, с соблюдением той же процедуры, под контролем тех же межпартийных комиссий!.. Из всех ошибок, совершенных демократией в ходе революции 1917 года, это была, быть может, самая тяжелая» [372] Войтинский В. С. 1917-й. Год побед и поражений. С. 159–161.
, — считал Войтинский. Церетели соглашался: «Я не собираюсь отрицать, что нами были совершены ошибки, из которых главная — запоздание с созывом Учредительного собрания» [373] Церетели И. Кризис власти. С. 236.
.
Британский военный атташе в России генерал Альфред Нокс удивлялся казуистике российской власти: «В речи, произнесенной в Киеве в июне, Керенский, в то время еще военный министр, заявил аудитории, что Учредительное собрание не соберется раньше октября, потому что люди заняты работой на полях. Он не посчитал нужным даже упомянуть о войне, в связи с которой были отменены все выборы даже в такой небольшой стране, как Англия» [374] Нокс А. Вместе с русской армией. Дневник военного атташе. 1914–1917. М., 2014. С. 587.
.
Для большевиков сам вопрос с затяжкой созыва Учредительного собрания был еще одним подарком. Троцкий объяснит: «Либералы, бывшие в правительстве, наперекор демократической арифметике, в большинстве совсем не спешили оказаться в Учредительном собрании бессильным правым крылом, каким они были в новых думах… Либеральные юристы делили каждый волос на шестнадцать частей, взбалтывали в колбах все демократические отстои, препирались без конца об избирательных правах армии и о том, нужно или не нужно давать право голоса дезертирам, насчитывавшимся миллионами, и членам бывшей царской фамилии, насчитывающимся десятками. О сроке созыва по возможности ничего не говорилось. Поднимать этот вопрос в совещании вообще считалось бестактностью, на которую способны только большевики» [375] Троцкий Л. Д. История русской революции. Т. 1. С. 359.
. Что они и делали, обвиняя власть в нежелании созвать Учредительное собрание. Керенский определит одну из основных причин провала новой власти: «Временное правительство оказалось неспособным решить проблему создания стабильного демократического режима…» [376] Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. С. 158.
Совещание под руководством Кокошкина вырабатывало лучший в мире избирательный закон. Когда до него дошло дело, у власти были уже большевики.
Питирим Сорокин рассказывал: «В думской библиотеке среди прочих я встретил господина Набокова, который показал мне свой проект Декларации Временного правительства. Все мыслимые свободы и гарантии прав обещались не только гражданам, но и солдатам. Россия, судя по проекту, должна была стать самой демократической и свободной страной в мире.
— Как вы находите проект? — с гордостью спросил он.
— Это восхитительный документ, но…
— Что «но»?
— Боюсь, он слишком хорош для революционного времени и разгара мировой войны, — я был вынужден предостеречь его.
— У меня тоже есть некоторые опасения, — сказал он, — но надеюсь, все будет хорошо.
— Мне остается надеяться вслед за вами.
— Сейчас я собираюсь писать декларацию об отмене смертной казни, — сказал Набоков.
— Что?! И даже в армии, в военное время?
— Да.
— Это же сумасшествие! — вскричал один из присутствовавших. — Только лунатик может думать о таком в тот час, когда офицеров режут, как овец. Я ненавижу царизм так же сильно, как любой человек, но мне жаль, что он пал именно сейчас. По-своему, но он знал, как управлять, и управлял лучше, чем все эти «временные» дураки.
Соглашаться с ним не хотелось, но я чувствовал, что он прав». «А что же правительство? Лучше, наверное, было бы вообще не говорить о нем. Благородные идеалисты, эти люди не знают азбуки государственного управления. Они сами не ведают, чего хотят, а если бы и знали, то все равно не смогли бы этого добиться» [377] Сорокин П. А. Дальняя дорога. Автобиография // Великая русская революция глазами интеллектуалов. М., 2015. С. 13, 16.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
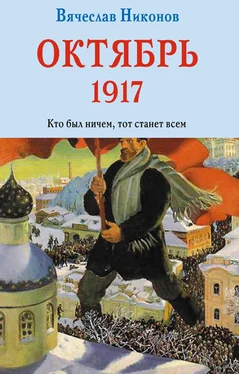



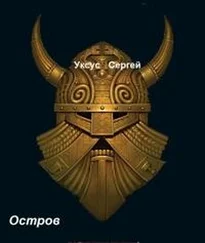

![Вячеслав Никонов - Ленин. Человек, который изменил всё [litres]](/books/399917/vyacheslav-nikonov-lenin-chelovek-kotoryj-izmenil-v-thumb.webp)