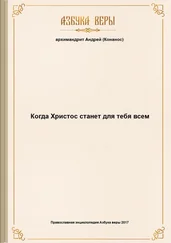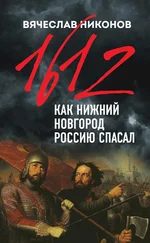Бунина тоже покорил вид Марсового поля, «на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых!» [796] Бунин И. А. Окаянные дни: Повести. Рассказы. Воспоминания. М., 2006. С. 100.
О чем шла речь на митингах? Обо всем и ни о чем.
Самыми популярными терминами стали «народ», «свобода» и «воля». Немного уступало им понятие «демократии», которое было главным в интеллигентских кругах, но не обязательно в народных массах, которым оно казалось слишком сложным. «Слова: Россия, родина, отечество — стали почти неприличными и из употребления на митингах были совершенно изъяты. Можно было «спасать революции», но «спасать Россию» — это было уже нечто контрреволюционное» [797] Бубликов А. А. Русская революция. Впечатления и мысли очевидца и участника. М., 2016. С. 79.
, — подметил Бубликов.
«Язык, молчавший ранее или не затрагивавший многих «святынь», теперь начинает «поносить», «бичевать», «обличать», — пишет Сорокин. — Он начинает призывать к низвержению… «богов и святынь» (религию, церковь, собственность, мораль и т. д.). «Долой!» — вот монотонное резюме этих многочисленных призывов» [798] Сорокин П. А. Социология революции. М., 2005. С. 62.
. Бунин вообще утверждал, что «образовался совсем новый, особый язык, «сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу «грязных остатков издыхающей тирании…». Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций — бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна» [799] Бунин И. А. Окаянные дни. С. 80.
.
Распространение рефлексов подражания Сорокин видел в том, что «тысячи ораторов в своих речах стереотипно повторяли термины и выражения их лидеров, часто не понимая их смысла, коверкая иностранные слова и произнося в целом речи, представлявшие собой набор фраз без смысла и содержания, но состоящие из выражений, стереотипно повторявших «образы» [800] Сорокин П. А. Социология революции. С. 174, 175.
. Бердяев писал в июне: «Слишком индивидуальная мысль уже сейчас будет признана контрреволюционной. Революционными называют лишь трафаретные мысли, лишь стадные мысли… Нравственный шантаж уже дал свои плоды, он фактически почти упразднил свободу слова, лишил слово его самоценности» [801] Бердяев Н. А. Падение священного русского государства: Публицистика 1914–1922. М., 2007. С. 550–551.
.
Наживин наблюдал, как «и в деревнях, и в городе, и всюду с жадностью невероятной в первые ряды очень быстро протискалось все самое ограниченное, тупое, все озлобленное и мстительное, все самоуверенное и горластое, и заполнило собой все, и закружилось в бесконечной карусели чужих автомобилей и занозистых, но совершенно пустых речей» [802] Наживин И. В. Записки о революции. С. 42–43.
.
Деформацию реакций властвования и повиновения в России Сорокин описал следующим образом: «Царь пал. В России все другие власти «светили его светом…» Вслед за угасанием рефлексов повиновения к царю и его агентам быстро погасли рефлексы повиновения солдат офицерам и генералам, рабочих — руководителям фабрик и предпринимателям, крестьян — дворянам, помещикам, представителям городского и земского самоуправления, вообще — подчиненных — властвующим». Пал авторитет, но исчезло и принуждение. Единственные тормоза, поставленные Советами и Временным правительством, состояли в «уговаривании» в воззваниях, в апелляции к совести, к «революционному сознанию», к «защите революции и родины». Вдобавок и они были двусмысленны; не столько тормозили, сколько растормаживали» [803] Сорокин П. А. Социология революции. С. 77–79.
.
Деформация инстинктов повиновения наложилась на российскую бунтарскую традицию. Как только начальство утратило способность приказывать, население утратило способность повиноваться. «Надеяться на то, что революция в России может пройти, если так можно выразиться, в более культурных формах, чем проходили в других странах, не было ни малейших оснований в силу присущих русскому народу свойств, заставляющих его находить известную прелесть в самом процессе разрушения» [804] Шидловский С. И. Воспоминания. Ч. I. Берлин, 1923. С. 9.
, — философски замечал Сергей Шидловский.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
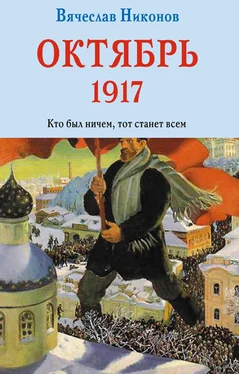



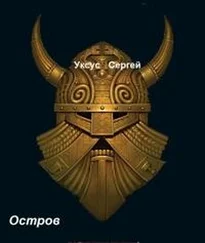

![Вячеслав Никонов - Ленин. Человек, который изменил всё [litres]](/books/399917/vyacheslav-nikonov-lenin-chelovek-kotoryj-izmenil-v-thumb.webp)