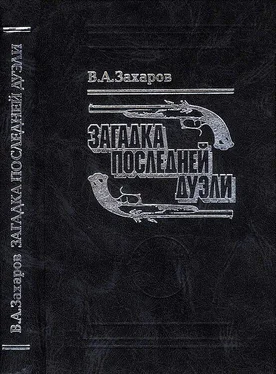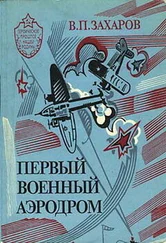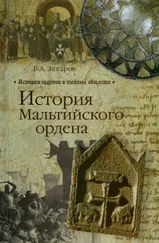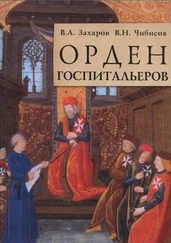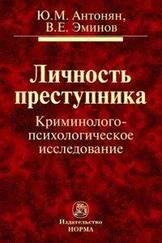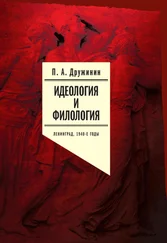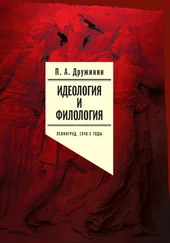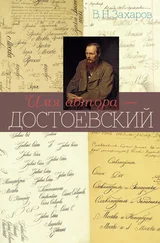Тем не менее, в 1984 году С.В. Чекалин в книжке «Наедине с тобою, брат…» вновь напомнил читателям об этой истории, сопроводив это напоминание следующей оговоркой: «По всей видимости, факты из личной жизни поэта были перепутаны с событиями и героями из его произведений» [193, 6; 194].
В 1967 г. один из членов комиссии профессор Ленинградской Военно-медицинской академии В.И. Молчанов напечатал статью: «О ранении и смерти М.Ю. Лермонтова», в которой был дан исчерпывающий ответ не только последним скептикам, но и В.А. Швембергеру.
Описывая рану Лермонтова, В.И. Молчанов отметил, что «восходящее направление раневого канала можно объяснить еще рикошетом пули от верхнего края 10 ребра или от какого-нибудь предмета на одежде Лермонтова. Рикошет мог иметь место и в глубине тела, например, от печени, и в области выхода пули из левой плевральной полости.
Сказанное позволяет утверждать, что ранение Лермонтову могло быть причинено выстрелом Мартынова, и что последний мог стоять в обычной позе дуэлянта, и ему не нужно было «поставить пистолет на землю в полутора метрах от Жертвы и стрелять в таком положении», как полагают И. Кучеров и В. Стешиц.
Вызывает споры еще вопрос о патогенезе смерти и о продолжительности умирания Лермонтова.
В Свидетельстве № 35 сказано, что пуля «…пробила правое и левое легкое…», в результате чего «…Лермонтов мгновенно на месте поединка помер». Однако профессор С.П. Шиловцев [205] высказал иную точку зрения. Он полагает, что пуля вначале попала в живот и могла поранить печеночный угол поперечноободочной кишки, желудок или малый сальник, печень, затем диафрагму и нижнюю долю левого легкого, а крупные сосуды и сердце не были затронуты, поэтому смерть наступила от внутреннего кровотечения и шока спустя несколько (4–5) часов после ранения. Так как труп Лермонтова не вскрывался, то невозможно установить, какие именно органы и сосуды были повреждены. Об этом можно судить лишь приблизительно, учитывая локализацию раневых отверстий, позу в момент ранения и гипотетический ход раневого канала, как это сделал Барклай-де-Толли. Нам кажется, что мнение последнего более близко к истине, чем предположения С.П. Шиловцева.
Если пуля вошла на уровне 10 ребра, то она могла пройти через синус правой плевральной полости, повредить диафрагму и печень, затем левое легкое. Не исключена возможность повреждения аорты или сердца, поскольку крупная пуля, имеющая большую скорость, проходя даже вблизи этих органов, могла причинить ушиб или разрыв их. Огнестрельное ранение обеих плевральных полостей и легких вызывают быстрое наступление смерти вследствие двустороннего пневмотракса, повреждения аорты или сердца, а также обширные ранения печени — вследствие острой кровопотери. Сочетание пневмотракса с кровопотерей тем более может обусловить быструю смерть.
Все сказанное позволяет отвергнуть версии о ранении М.Ю. Лермонтова подставным лицом и о длительном процессе умирания раненого поэта, как не имеющие достаточных объективных оснований» [136; 501–503].
Как писал П.А. Висковатый: «Когда я спросил кн. Васильчикова, кто собственно был секундантами Лермонтова? он ответил, что собственно не было определено кто чей секундант. Прежде всего Мартынов просил Глебова, с коим жил, быть его секундантом, а потом как-то случилось, что Глебов был как бы со стороны Лермонтова…» [48, 423].
Вероятно, родные Мартынова приехали тогда к заточенному в тюрьме Н.С. Мартынову; Глебов уже пользовался свободой. — Прим. П. Бартенева .
Недумов в своем исследовании «Лермонтовский Пятигорск» посвятил отдельную главу тайному надзору на Кавказских Минеральных Водах [143, 140–148]. Он установил, что с 1834 года на Воды регулярно посылались жандармы для надзора за лечащимися военными. Жандармские офицеры посылались на разные сроки: одни — на три года, другие — меньше, чем на год.
Об этом письме автор рассказал Э.Г. Герштейн, и оно было опубликовано во втором издании ее книги «Судьба Лермонтова».
Так в Пятигорске называли церковь во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости.
Можно привести свидетельство Э. Гарда, видевшего дневниковые записи Надежды Петровны Верзилиной. Э. Гард в 1939 году разыскал жившую под Курском дочь Надежды Петровны и Алексея Шан-Гирея — Марию Алексеевну Трувеллер, ей в то время было уже 83 года: «Записи дневника под датами 15–17 июля 1841 года передают, как была потрясена смертью Лермонтова Надежда Петровна Верзилина. В дневнике она рассказывает, что после похорон поэта она в сопровождении горничной девушки тайком, ночью, отправилась на могилу поэта и взяла оттуда простой серенький камушек. Камушек был треугольный, его отдали отшлифовать и отправить в золото, в виде булавки; на оборотной стороне была вырезана буква «Л»… Для Шан-Гиреев и Верзилиных, как и для доживших до наших дней их дочерей, Лермонтов — не только великий поэт, но и — Михаил Юрьевич, Мишель, шалун, забияка, иногда злой и даже грубоватый насмешник, но все-таки близкий и милый всегда…» [53, 20].
Читать дальше