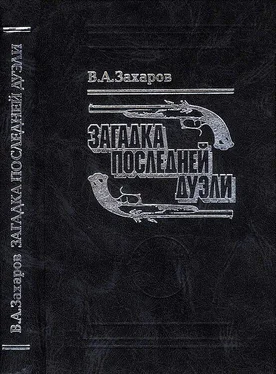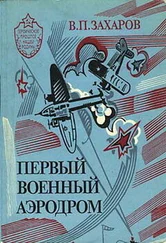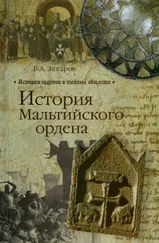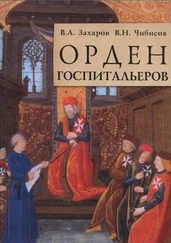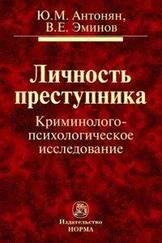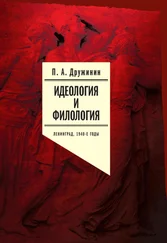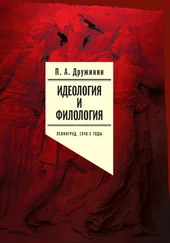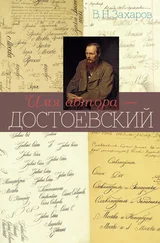Как видим, в письме довольно объективно излагаются обстоятельства поединка, вместе с тем нельзя не заметить сочувствия Траскина к поэту.
Подробный анализ действий Барклая-де-Толли произвел кандидат медицинских наук Борис Александрович Нахапетов, уже много лет занимающийся темой «Медики и медицина в жизни Лермонтова». В письме к автору от 10 октября 1988 года он писал:
«Привлечение И.Е. Барклая-де-Толли в качестве судебно-медицинского эксперта было осуществлено в рамках требований изданного в 1829 года «Наставления врачам при судебном осмотре и вскрытии мертвых тел», в параграфе 2 которого говорилось: «Осмотр и вскрытие мертвых тел обязаны производить в уездах уездные, а в городах городовые и полицейские врачи, но если они по болезни или по другой законной причине не могут оным заняться, то вместо их обязанность сия возлагается на всякого военного, гражданского или вольнопрактикующего медицинского чиновника». <���…> Упомянутым наставлением (параграф 12) предписывалось ведение специального протокола судебно-медицинского исследования: «Медицинский чиновник обязан вести подробный протокол всему ходу исследования. По совершенном же окончании осмотра должно протокол прочитать вслух и сличить его с протоколом, в то же время составленным чином полиции». Присутствие полицейского чиновника являлось обязательным при производстве судебно-медицинского освидетельствования.
Согласно параграфу 21 Наставления «с представлением врачом в судебное место акта осмотра обязан он в то же время точную копию представить в Врачебную управу».
Разделом Наставления, посвященным исследованию наружных повреждений, предписывалось: «Буде нателе оказываются следы наружного насилия, то должно оные прежде всего обстоятельно исследовать. Сначала определить род повреждения, потом место и части тела, где оное находится, описать величину, вид, длину и ширину самого повреждения и сличить оное с орудиями, коими оное (как предполагается) причинено.
Наконец следует описать направление повреждения. В случае ран от огнестрельных оружий должно исследовать, одною ли пулей произведена рана или несколькими, крупною ли, или мелкою дробью. Когда рана сквозная, то определить, где вход и где выход, какое направление имеет рана, какие именно части повреждены и не найдены ли в оной пули, дробь, пыж, часть одежды, костяные обломки и т. п.» [9].
Впервые это свидетельство привел П.К. Мартьянов [131, 101–102], затем его повторил В.А. Мануйлов [126, 169–170]. Анализируя заключение, составленное Барклаем-де-Толли, можно прийти к выводу, что он без особого усердия отнесся к порученному делу. Возможно, что у него были основания считать рану в правом боку входным, а в левом — выходным отверстием, но из составленного им текста такого вывода сделать нельзя.
И.Е. Барклай-де-Толли недостаточно четко охарактеризовал раны, не описал их форму и размеры, не привел характеристики краев ран и окружающих тканей, то есть всего того, без чего судебно-медицинский эксперт, не располагающий к тому же необходимыми данными об обстоятельствах травмы, не может сделать квалифицированного заключения о том, какое раневое отверстие является входным, а какое выходным.
И.Е. Барклай-де-Толли нарушил также обязательное требование параграфа 35 Наставления:
«Необходимо нужно всегда вскрывать по крайней мере три главные полости человеческого тела и описывать все то, что найдено будет замечания достойным».
Нарушения требований Наставления врачами были не редкостью в судебно-медицинской практике того времени, в связи с чем Медицинский департамент был вынужден повторно обращать внимание на недостаточно серьезное отношение врачей к проведению судебно-медицинских экспертиз. Примером подобного рода может, в частности, служить судебно-медицинское исследование трупа А.С. Пушкина, которое также было проведено с нарушением требований Наставления. И это несмотря на то, что вскрытие производил доктор И.Т. Спасский, дипломированный судебный медик. В.И. Даль писал по этому поводу: «Время и обстоятельства не позволили продолжить подробнейших изысканий» [9].
Уже давно существует легенда о том, что Лермонтов был убит неким таинственным казаком, выстрелившим в него сзади из-за кустов. Ее автором был директор пятигорского музея «Домик Лермонтова» С.Д. Коротков. Его предположения были изложены Ан. Павловичем в статье, опубликованной в «Комсомольской правде» [160] и с тех пор гуляют по свету. В.А. Швембергер обосновал эту легенду, опубликовав в 1957 году в журнале «Литературный Киргизстан» свою статью «Трагедия у Перкальской скалы». В 1966 году эту версию (с некоторыми изменениями и дополнениями) повторили И. Кучеров и В. Стешиц, но она не выдержала критики [110, 90].
Читать дальше