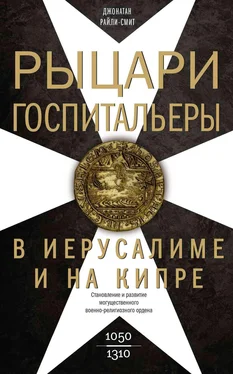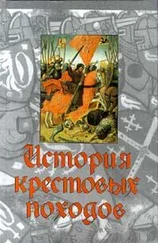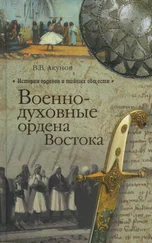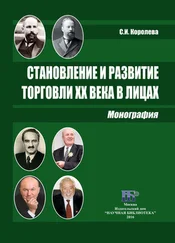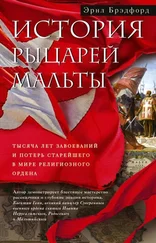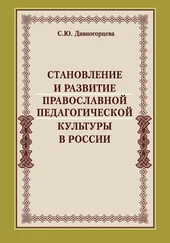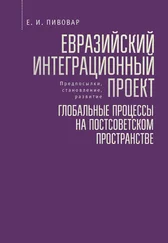Церковные учреждения в большей степени, чем все другие подразделения ордена, пользовались привилегиями, полученными в результате выхода из-под епископальной юрисдикции. В 1179 г. магистр, обратившись с просьбой о пожертвованиях в пользу ордена, дал обещание верующим, что в качестве воздаяния за их труды 14 130 священников по всему миру отслужат 1 тысячу месс. Сообщалось, «что в ордене… в 1240 г. было 3500 часовен». Этим цифрам не всегда можно верить, но нам известно, что в Акре в 1263 г. конвентуальный приор имел в подчинении четырех священников, одного капеллана, двух диаконов, четырех аколитов и одного ризничего. В госпитале для бедных пилигримов обычно служили священник и аколит, в то время как в церкви Святого Михаила на орденском кладбище еще один священник служил мессы по усопшим, имея в помощниках аколита. Сколько клириков было у ордена на Кипре, нам неизвестно. Также в Конвенте, но вне юрисдикции конвентуального приора служили капелланы магистра. Впервые о них говорится в 1157 г., а статуты 1206 г. разрешили магистру иметь священника и причетника. Вероятно, в 1241 г. у него уже было два священника, а в 1298 г. – два священника и причетник. Статуты 1302 г. подтвердили статуты 1206 г., но позволяли ему нанять еще одного священника вместо причетника, если он того пожелает.
Несмотря на свидетельства о наличии большого числа церковных учреждений, вполне возможно, что эти цифры были, скорее всего, оценочными, чем реальными. В идеальном случае в каждом доме ордена должны были служить три священника, но вполне понятно, что это требование выполнялось не всегда. Статуты 1177 г. предусматривали новые правила для тех церквей, где не хватало священников. Генеральный капитул 1262 г. выказал недовольство тем фактом, что во многих домах ордена их не было ни одного. Он обратился к командорам с требованием рекрутировать необходимых для служения клириков. Вероятно, требовалось постоянно пополнять их ряды со стороны.
Булла Quam amabilis Deo 1139–1143 гг. разрешала приходским священникам служить в ордене в течение одного или двух лет. Особо подчеркивалось, что никто не должен чинить им препятствий, если они решат помочь ордену в этом деле, и не урезать их доходы. Но Госпиталь привлекал священников и на больший срок. Устав и статуты 1177 и 1182 гг. содержали статьи, касавшиеся выполнения обязанностей клириков неорденскими священниками; и для этого орден должен был выделять необходимые средства. В 1234 г. белое духовенство продолжало служить в ордене и проживать в конвентах. К концу XIII в. такие священники получили полуофициальный статус. Ни один приходской священник не имел права служить, пока он не предъявлял надежное свидетельство о своем поставлении. В обычных обстоятельствах он не мог исповедовать братьев и ему было запрещено служить мессу.
Вероятно, первоначально не было разделения между братьями, взявшими в руки оружие, то есть братьями-воинами, и теми, кто не воевал, или служащими братьями. Да и сами братья-воины еще не делились на рыцарей и сержантов. Единственными сформировавшимися классами в ордене вплоть до 1206 г. были священники и миряне. Мы наблюдали, как военный элемент начинал играть все большую роль в XII в., и как в XIII в. растущее влияние маршала привело к укреплению его роли в штаб-квартире ордена, где братья-воины завоевали себе право называть себя конвентуальными. Отныне они могли участвовать в Капитуле и влиять на принятие решений. В то же самое время происходил процесс разделения их на рыцарей и сержантов, и появилось рыцарство как класс. Устав ордена тамплиеров предписывал братьям-рыцарям носить белую мантию, чтобы по ней их можно было отличить, а сержантам досталась мантия коричневого цвета. Однако в уставе отсутствовали требования к кандидатам в рыцари; они появились только в середине XIII столетия. Для кандидата было необходимо, чтобы он уже был посвящен в рыцари; и он должен был быть сыном рыцаря или потомком рыцарей по отцовской линии. Рыцаря, скрывшего свою принадлежность к рыцарству и присоединившегося к классу братьев-сержантов, в случае его разоблачения ждало наказание – его заковывали в кандалы. Эти статьи отличались бескомпромиссной приверженностью букве закона; и можно видеть, что в период между 1130 и 1250 гг. право на рыцарство превратилось в наследственную привилегию. Подобные процессы происходили и в Западной Европе. Эта кастовая система формировалась вместе с развитием законодательства о наследовании и являлась реакцией на другие социальные перемены: появление буржуазии и богатого городского патрициата, а также ослабление феодальных связей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу