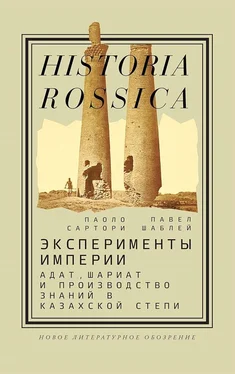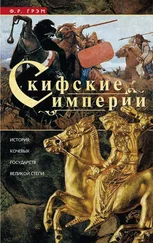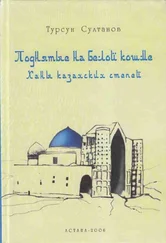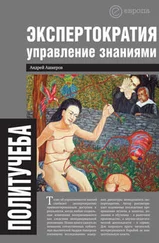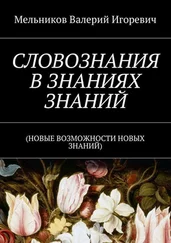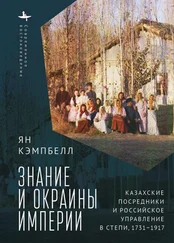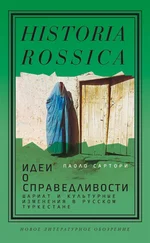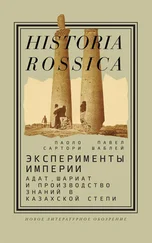Понимая, что версии казахского обычного права, зафиксированные имперскими чиновниками, могли сильно отличаться от доколониальных практик, мы должны иметь в виду некоторые особенности эволюции местной культуры. Так, исследователи часто обращают внимание на некое внешнее сходство между культами, верованиями и религиями, которые исторически бытовали на одной и той же территории, и вследствие этого делают выводы о синкретизме религиозного сознания, например об адаптации ислама к шаманизму [11] Сызранов А. В. Ислам в Астрахани: история и современность. Астрахань, 2007; Sultanova R. From Shamanism to Sufism: Women, Islam and Culture in Central Asia. London, 2011.
. Подобные заключения используются для того, чтобы указать на гибкий и бесконфликтный путь трансформации религиозных практик в истории тюркских народов. Антропологический фокус заставляет сомневаться в эффективности двухъярусных моделей. Согласно Девину ДеУису, исследователи (особенно советские этнографы), говоря об «исламизированном шаманстве» [12] См.: Басилов В. Н. Исламизированное шаманство народов Средней Азии и Казахстана. М., 1991.
, часто создавали искусственные рамки, чтобы с помощью научного аппарата, разработанного для шаманизма, изучать менее известный им суфизм [13] DeWeese D. Shamanization in Central Asia // Journal of the Economic and Social History of the Orient. 2014. Vol. 57. P. 340–348.
. Такой подход, предусматривавший существование различных религиозных наслоений, в конечном счете препятствовал пониманию специфики тех или иных религиозных практик [14] Например, практика совершения зикра (песнопение, заключающееся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Аллаха) в суфизме, историческая связь которой с шаманизмом не представляется настолько очевидной, как это пытались доказать советские этнографы. Девин ДеУис убедительно продемонстрировал, что особенности суфийского зикра можно изучить с помощью источников XV–XIX вв. См.: DeWeese D. Shamanization in Central Asia. P. 349–359.
. С такого же рода проблемами сталкиваются исследователи, когда говорят о существовании регионального ислама и об особенностях ислама казахского, чеченского, сибирского и т. п. [15] Селезнев А. Г., Селезнева И. А., Белич И. В. Культ святых в сибирском исламе: специфика универсального. М., 2009; См. введение к: Ислам на территории бывшей Российской империи. Энцикл. словарь / Ред. С. М. Прозоров. Т. 1. М., 2006.
В действительности же это приводит к созданию иерархической модели объяснения и некоей конкуренции разных исламов (например, противопоставляются официальный и народный ислам). С нашей точки зрения, прежде чем говорить о различных региональных проявлениях ислама и его ассимиляционных возможностях, необходимо детально разобраться в истории религиозных практик [16] Одна из них — это культ предков (казахское слово аруақ — культ аруаков — имеет арабское происхождение (аруах, рух) и переводится как «души, духи») у казахов. Существуют большие сомнения, что эта религиозная практика была адаптирована к исламу по какому-то предсказуемому сценарию, например на основе своей связи с шаманизмом. Можно предполагать, что суфийская традиция, имевшая глубокие исторические корни в Центральной Азии, контекстуализировала исламский характер культа предков на более ранних этапах его развития, чем предполагают некоторые исследователи. См.: Privratsky B. G. Muslim Turkistan: Kazak Religion and Collective Memory. London; New York, 2001. Р. 114–153.
.
Антропологический подход проливает свет и на соотношение адата и шариата. В этом случае различия между ними приобретают значение только тогда, когда они представляются в виде идеально-типичных дефиниций, а бии, муллы и кади пытаются различить адат и шариат только для того, чтобы сказать, как люди должны жить и какими правилами руководствоваться. Однако вследствие разнообразных условий жизни нормативность не может играть определяющей роли, и различиям между адатом и шариатом не предается принципиального значения. В рамках коллективного сознания адат отражает более широкую сферу потребностей. Под ним могут понимать не только шариат, но и ряд повседневных практик — этикет, ритуалы и др. [17] Такой анализ можно сравнить с особенностями использования понятия салт (обычай, традиция, нрав) в современном Кыргызстане. Антрополог Джудит Бейер считает, что любая общая дискуссия о салте задается его нормативными понятиями (закон, легальная система). Когда к салту обращаются в конкретных ситуациях (в повседневных условиях), он приобретает более многозначительный смысл — моральность, обычай, политическая система. См.: Beyer J. The Force of Custom: Law and the Ordering of Everyday Life in Kyrgyzstan. Pittsburg, 2016. P. 6–8.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу