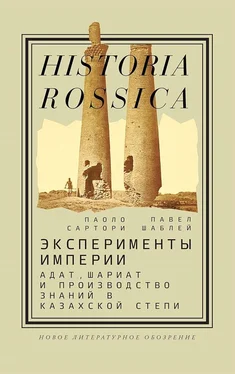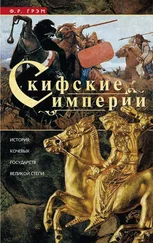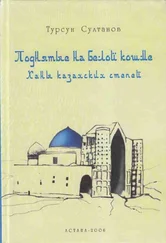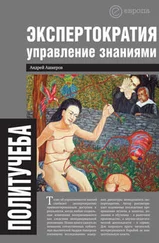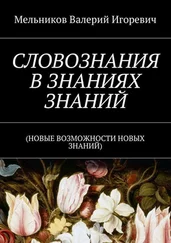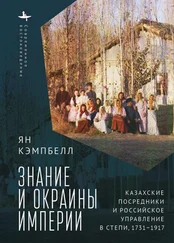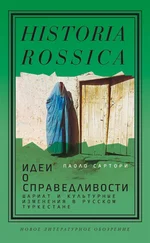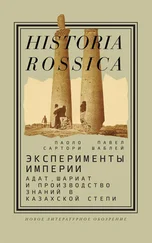В зависимости от различных факторов империя конструировала новые формы знаний или заимствовала опыт других колониальных держав. Большую роль в этом деле сыграли востоковеды и чиновники разных уровней, противоречия между которыми, а также особенности их взаимодействия с местным казахским населением будут подробно рассмотрены в этой книге. При этом ключевую роль играет вопрос о соотношении адата и шариата, позволяющий нам обсудить не только принципиальные разногласия по поводу специфических правовых вопросов, но и широкий спектр проблем имперской политики, культурных изменений и административного регулирования в разных регионах Казахской степи.
Одним из характерных проявлений имперского конструирования знаний был процесс кодификации казахского обычного права. Примечательно, что его участниками, наряду с чиновниками и востоковедами, были и местные казахи. Их понимание адата и шариата было несколько иным — отличным от того, как эти вещи представляли себе российские власти. Ключевое внимание здесь было сосредоточено на фигуре бия, который в имперском дискурсе объявлялся главным судьей и хранителем «традиционных» правовых знаний (основанных на адате) [4] Фукс С. Л. Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой половине XIX в. Астана, 2008. С. 466–581.
. Однако в действительности все было не так просто. Некоторые бии также были муллами и кади (кади — мусульманский судья) [5] См. об этом: Frank A. Shari‘a Debates and Fatwas among Nomads in Northern Kazakhstan, 1850–1931 // Islamic Law and Society. 2017. Vol. 24. P. 63. См. также третью главу данного исследования.
, что демонстрировало синкретизм правовой культуры и комплексность местных судебных практик. Таким же неоднозначным является вопрос о колониальной трансформации адата, а также о том, что представляло собой местное право до присоединения Казахской степи к Российской империи. Так как казахская правовая культура не имела письменной традиции, наши знания об адате основываются в основном на сборниках, подготовленных российскими чиновниками. В связи с этим существует несколько интерпретационных парадигм. Первая сводится к тому, что в колониальный период адат был воспринят как некая общепринятая традиция. Имперские чиновники считали, что необходимо записать полную версию популярных среди казахов преданий о судопроизводстве времен хана Тауке (годы правления 1680–1718). Российской администрации импонировала эта мысль еще и потому, что Тауке-хан смог не только объединить враждующие кочевые группировки, но и добиться, согласно рассказам самих казахов, признания своего свода норм обычного права [6] «Жеті Жарғы» («Семь уложений») хана Тауке. См.: Материалы по казахскому обычному праву. Сборник / Ред. С. В. Юшков. Алма-Ата, 1948. С. 22; Спасский Г. Киргиз-кайсаки Большой, Средней и Малой Орды // Сибирский вестник. 1820. Т. 9, 10.
во всех трех жузах. Такой сборник, составленный на основе сведений местных информаторов, должен был воспроизвести «подлинные» черты казахской правовой культуры и стать действующим руководством для чиновников колониального управления. В этом случае империи предстояло отделить доколониальный адат, определявшийся в виде «истинно-казахских обычаев» [7] Такая интерпретация местного права приобретает устойчивый характер в первой половине XIX в. См.: ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 5716. Л. 54–55.
, от его современных видоизменений, сформировавшихся благодаря влиянию Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС), центральноазиатских государств и др. [8] См.: Валиханов Ч. Ч. Записка о судебной реформе // Ч. Ч. Валиханов. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. Алма-Ата, 1985. Нет сомнений, что подобные мнения имели влияние на руководителей местных административных ведомств. Так, в 1852 г. оренбургский и самарский генерал-губернатор В. А. Перовский поддержал приоритет суда биев в разборе исковых дел казахов, заявив, что кочевники «ни в каком отношении» не подведомственны ОМДС. См.: Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 821. Оп. 8. Д. 602. Л. 6 об.
Однако подобное объяснение не может восприниматься без проблем. Исследователи колониальных империй убедительно показали, что нормы обычного права не обязательно должны обладать продолжительной (или даже патриархальной) историей. Они могут измеряться временем жизни определенного сообщества. Такое общество сохраняет прежние нормы и адаптирует новые как часть своей схемы социальных соглашений, обязательств и т. д. Различия или специфика обычного права, таким образом, не есть что-то устойчивое или строго зафиксированное. Даже в жизни отдельных деревень, кланов, племен некоторые нормы обычного права могут быть несопоставимы, так как служат различным целям, которые преследуют эти общества [9] Woodman Gordon R. A Survey of Customary Law in Africa in Search of Lessons for the Future / Eds. J. Fenrich, P. Gallizzi, T. Higgins. The Future of African Customary Law. Cambridge, 2011. P. 15–17. Эту же идею ясно отразил сборник И. Я. Осмоловского.
. Важно отметить и то обстоятельство, что исследователи не всегда учитывают особенности мышления, которыми могли руководствоваться местные информаторы права. Востоковед и военный губернатор Сыр-Дарьинской области Н. И. Гродеков заметил, что адаптация сознания местных жителей к колониальному контексту происходила гораздо быстрее, чем это предполагали сами составители сборников. Предоставляя колониальным чиновникам информацию о местном праве, казахи Сыр-Дарьинской области могли понимать, что империи выгоден адат, а не шариат [10] Гродеков Н. И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области: юридический быт. Т. 1. М., 2011. С. 34. Первое издание: Гродеков Н. И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области: юридический быт. Т. 1. Ташкент, 1889.
. Это допущение позволяло манипулировать одними и теми же понятиями и видоизменять их более ранние значения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу