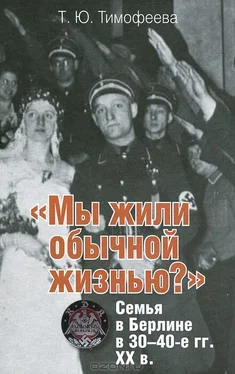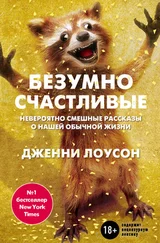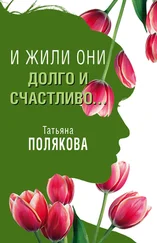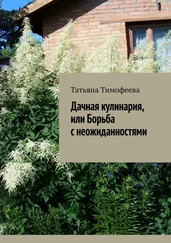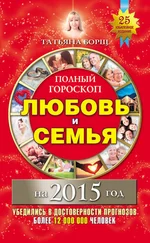Смысл национал-социалистической семьи заключался в сохранении расы, продолжении рода, но не только биологически. Детей надо было не только вырастить, но и воспитать полноценными членами общества («Volksgenossen»), что можно было сделать изначально лишь в расово полноценной семье, передав позже подросших детей в руки еще более лучшего воспитателя — национал-социалистического общества в лице детских и юношеских союзов, школы, армии. Причем чем старше становились дети, тем меньше государство доверяло семейному воспитанию и стремилось побыстрее вырвать их из индивидуалистического семейного окружения, родительской любви и опеки и социализировать, привить им ценности нацистского морально-этического кодекса в духе абсолютной преданности и служения фюреру, государству, Германии, второстепенности всего личного.
Создание семьи в противовес устаревшим ценностям буржуазного мира становится «отныне не делом только любви, а политической ответственности, оно подчиняется требованиям расовой гигиены и расовой политики. Зачинать и рожать детей — это национальный долг, требование национальной политики» [42]. Власть в семье по-прежнему строится на признании авторитета, абсолютное послушание детей — это естественное признание и благодарность за заботы родителей. Семья должна преодолеть свойственный ей, но вредный для «народного сообщества» («Volksgemeinschaft») индивидуализм, замкнутость на кровном родстве и рассматривать себя как открытое пространство на службе обществу.
C 1934 г. нацисты начинают распространять брошюру «10 заповедей по выбору спутника жизни», в которой представлена достаточно откровенная квинтэссенция национал-социалистических расово-биологических представлений о роли и облике новой семьи:
1. «Думай о том, что ты немец».
2. «Ты должен, если только ты наследственно здоров, не оставаться холостым/незамужней».
3. «Содержи свое тело в чистоте!»
4. «Ты должен сохранять свой дух и душу чистой».
5. «Выбирай как немец жену/мужа такой же или нордической крови».
6. «При выборе супруга поинтересуйся его происхождением».
7. «Здоровье является предпосылкой красоты».
8. «Женись только по любви».
9. «Не ищи себе приключений, а ищи спутника жизни»
10. «Ты должен желать как можно больше детей» [43].
Что же собой представляли берлинские семьи, которые должны были воспринять эту идеологию, стать ее активными приверженцами? По результатам переписи 1939 г. из почти 4,4 млн. постоянно проживающих в городе жителей 76 % приходилось на людей в трудоспособном возрасте — от 15 до 65 лет (из них совершеннолетние от 21 года — 69,8 %), пожилые старше 65 лет составляли 8,8 %, дети до 15 лет — 15,2 %. Большинство населения — 83,7 % — были верующими, преимущественно протестантами (70 %) [44]. Больше всего людей проживали в центральных районах, меньше всего — на востоке и севере Берлина [45]. По социально-профессиональному составу население Берлина в 1939 г. распределялось следующим образом: в индустриальной столице преобладали рабочие вместе с членами своих семей, далее шли служащие, «самостоятельные», т. е. владельцы собственного дела, затем чиновники (особенность Берлина как столицы) (см. диаграмму в Приложении № 4) [46]. Долю «средних слоев» (служащие и «самостоятельные» без элиты) можно оценить приблизительно в 32 % от общего количества жителей, что практически соответствовало средним общегерманским показателям (36,2 %) [47].
Что касается семейного положения, то жениться мужчины в очень редких случаях начинали с 18 лет, женщины — с 16, однако преобладающим брачным возрастом, как и в остальной Германии, был период от 25 до 30 лет [48](см. Приложение № 7). Несмотря на отрицательное влияние экономического кризиса 1929–33 г.г. число заключаемых браков по всей Германии медленно росло: 589 тыс. в 1929 г., 740 тыс. в 1934 г. [49], большинство берлинцев (1 млн. 125 тыс. 783 мужчины и 1 млн. 126 тыс. 368 женщин) состояли в браке, 818 тыс. 939 мужчин были холостыми, вдовцами и разведенными. Число одиноких женщин в Берлине ненамного превосходит число замужних — 1 млн. 230 тыс. 371 чел. в основном за счет большого количества вдов — 283 тыс. 565 чел., это очевидные следы Первой мировой войны… [50]
Меньше всего берлинцы заключали браков с 1924 по 1926 г.г., в среднем по 26 тыс. в год, с 1928 по 1932 г. это среднее число увеличивается до 35 тыс., отражая надежды на лучшее в результате стабилизации и появление материальных резервов у людей (в 1929 г. — 39 тыс., однако в 1931 и 1932 г.г. — резкое падение до 31 тыс.). Новый скачок 1933 г. до 41,5 тыс. браков свидетельствует о надеждах, связанных в том числе со сменой власти и широко пропагандировавшимся «новым началом» для Германии, затем следует абсолютный максимум 1934 г. — 54,2 тыс. браков — видимо, многие пары решили наконец осуществить запланированное ранее бракосочетание, национал-социализм разворачивал демографическую пропаганду и социально-политические мероприятия, пытался сдвинуть с мертвой точки ситуацию на рынке труда — далее количество браков стабилизируется на все же более высокой цифре, чем в период Веймарской республики, — в среднем, 45,5 тыс. в год [51].
Читать дальше