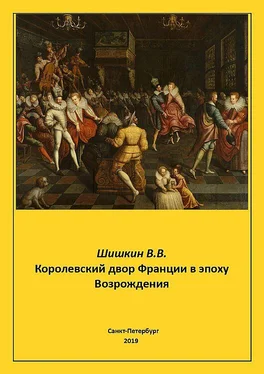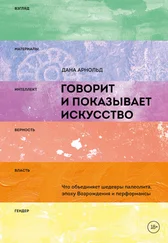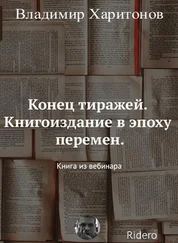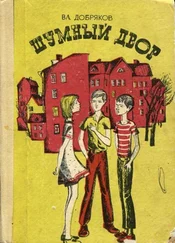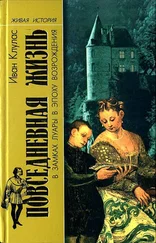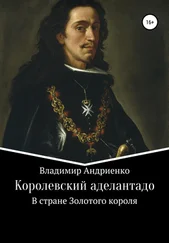Так, анализируя нотариальные акты дворянских дарений середины XVI столетия, сохранившиеся в Парижском Шатле, П.Ю. Уваров обратил внимание, что они зафиксировали социальный статус дарителей как « сеньоров » и « дворян ». Несмотря на всю условность такого деления, тем не менее, последняя группа все чаще указывала и документировала свои отличительные социальные качества, звания и титулы: « Все "индексы престижности" нарастают при движении от сеньоров к экюйе, а от них к шевалье и баронам » [248] Уваров П.Ю . Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам. М.: Наука, 2004. С. 136–140.
. Однако, современные историки также согласны с тем, что невозможно одними правовыми критериями определять настоящие границы носителей дворянского статуса, иначе мы получим искаженную картину действительности и социальной динамики, в том числе придворной [249] Копосов Н.Е . Как думают историки. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 49–53.
.
А последняя была неразрывно связана также с явлением фаворитов и фаворитизма, который уже в XVII в. стал приобретать самостоятельные институциональные черты внутри двора. Вообще, борьба за влияние феодальных кланов и клиентел, представлявших при дворе разные регионы страны, равно как отдельных персонажей или партий, была характерной чертой средневекового двора Франции [250] Potter D.L. Politics and faction at the French Court from the late Middle Ages to the Renaissance: the development of a political culture//Paris, Cour-de-France.fr, 2011. Article inédit mis en ligne le 1er juin 2011 (http://cour-de-france.fr/article1883.html); Famiglietti R.C. Royal Intrigue: Crisis at the Court of Charles VI, 1392–1420. New York: AMS Press, 1986.
. Пример « мармузетов-магометов » ( Marmousets , Mahomets ), сплоченной группы советников, занимавших придворные должности в Королевской палате и возвышенных Карлом VI, весьма показателен [251] Knecht R.J. The Valois, kings of France. 1328–1589. London: Hambledon Continuum, 2007. P. 44–46.
. Двор более позднего времени, несмотря на все социально-политические коллизии, продолжал воспроизводить фаворитизм в той или иной форме, поскольку этот вид королевского благожелательства был взаимовыгоден, зачастую был связан с механизмами организации публичного управления, степенью влияния при дворе и в стране, доступом к королевским милостям, а значит, благосостоянию.
Слово favorite, пришедшее из Италии или Испании и вошедшее во французский лексикон примерно в 1500-е гг., поспособствовало эволюции французского faveur , известного с XII столетия, образовав, прежде всего слова favori и favorite [252] Potter D.L. Politics and faction at the French Court from the late Middle Ages to the Renaissance: the development of a political culture//Paris, Cour-de-France.fr, 2011.
. По мнению французского историка Никола Ле Ру, вплоть до середины столетия faveur использовали не только в отрицательном смысле. Так, сравнивая значения этого слова и его новых производных, представленных во «Франко-латинском словаре» Робера Этьена издания 1584 г., Н. Ле Ру замечает, что два самых употребимых и близких друг другу из них были напрямую связаны со словом двор: фавор при дворе правосудия и фавор при дворе государя . Так как главным субъектом принятия решений при обоих названных дворах в конечном счете был король, то фавор воспринимался как « кристаллизация суверенной формы королевского авторитета » [253] Le Roux N . La faveur du Roi. Mignons et courtisans au temps des derniers Valois (vers 1547 — vers 1589). Paris: Champ Vallon, 2000. P. 22–25.
.
Ситуация начала резко меняться во время Гражданских войн второй половины XVI столетия, когда слово faveur начало активно использоваться в политическом лексиконе и ассоциироваться с материальными благами, получаемыми за разного рода услуги (зачастую сомнительного свойства) от их держателя — влиятельного лица, не обязательно монарха. Вместе с тем упомянутое издание Р. Этьена впервые зафиксировало выражение « le favorit du Roy », отражая реалии времени, характерные формы отношений коронованной особы и избранных лиц, лично и особым образом зависящих от государя [254] Le Roux N . La faveur du Roi. Mignons et courtisans au temps des derniers Valois (vers 1547 — vers 1589). P. 23.
. Возможно, это случилось под влиянием антикуриальных произведений испанца Антонио де Гевары, переведенных на французский язык, и в частности его книги «Фаворит двора» (1556) ( Le favory de Court ) [255] Zemon Davis N. Gift in XVIth century France. Oxford: Oxford university press, 2000. P. 121–122.
. Королевский фаворит в ренессансной Франции зачастую также отождествлялся с миньоном .
В свою очередь, слово mignon, известное с XII столетия, первоначально применялось в отношении верного слуги какого-либо феодала. Филипп Контамин убедительно доказал, что в XV в. оно уже принадлежало к придворной лексике и означало лиц, имевших особо доверительные отношения с монархом, пользовавшихся его расположением. Этим лицам доверялись миссии особой важности [256] Contamine Ph . Pouvoir et vie de cour dans la France du XVe siècle: les mignons II Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Vol. 138. № 2, 1994. P. 541–554.
. В правление Франциска I, в первой половине следующего столетия, mignon появляется для обозначения круга молодых придворных, сопровождавших короля, « jeunes gentilzhommes de ses mygnons et privez » [257] Potter D.L. Politics and faction at the French Court from the late Middle Ages to the Renaissance: the development of a political culture II Paris, Cour-de-France.fr, 2011.
. Наконец, уже в эпоху Генриха III, в разгар Религиозных войн mignon начинает принимать откровенно отрицательное значение, прочно связывась с favori и courtisan . Во всяком случае, Т.-А. д'Обинье в своих «Трагических поэмах», высмеивая порочное окружение короля, употребляет все три слова как синонимы [258] Д'Обинье Т.-А. Трагические поэмы/Пер. А. Ревича. М.: Присцельс, 1996. С. 156–157 (кн. II: Властители).
. Арлетт Жуана и Никола Ле Ру проанализировали причины складывания круга фаворитов-миньонов Генриха III и возможности их влияния на принятие государственных решений, равно как подробно исследовали процесс их общественного неприятия и даже ненависти, как один из ключевых факторов крушения двора Валуа в конце XVI столетия [259] Jouanna A . Faveurs et favoris: l'exemple des mignons de Henri III II Henri III et son temps. Actes du Colloque international du Centre de la Renaissance de Tours I Éd. R. Sauzet. Paris: J. Vrin, 1992. P. 155–165; Le Roux N . Courtisans et favoris: l'entourage du prince et les mécanismes du pouvoir dans la France des guerres de Religion//Histoire, Économie et Société. 17e année. № 3, 1998. P. 377–387.
.
Читать дальше