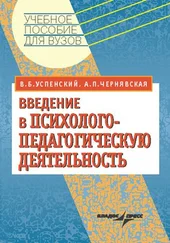В первый период существования советского государства понятие контрреволюционного преступления в законодательстве страдало расплывчатостью. Практически чекисты руководствовались инструкцией наркомата юстиции революционным трибуналам, текст которого был опубликован в центральных газетах 21 декабря 1917 г. В ходе своей работы ВЧК должна была выявлять и расследовать деяния лиц, «которые организуют восстания против власти рабоче-крестьянского правительства; активно противодействуют последнему или не подчиняются ему или призывают других лиц к противодействию или не подчинению ему». Далее достаточно обще описывались иные составы преступлений. Фактически, главным регулятором деятельности ВЧК, равно как и других советских органов, выступали указания большевистской партии и Совнаркома, а также «революционное сознание» и «революционная целесообразность». Подобный подход облегчал борьбу с противниками большевистской власти, но одновременно порождал массу проблем, связанных, прежде всего, с необоснованными арестами.
Неразграниченность полномочий ВЧК и Наркомата юстиции, который возглавлял левый эсер И. З. Штейнберг, а также различия в идеологии большевиков и левых эсеров стали провоцировать острые конфликты между этими ведомствами, которые регулярно выплескивались на заседаниях Совнаркома. Так, 18 декабря 1917 г. по ордеру Дзержинского были арестованы некоторые члены Учредительного собрания (как участники «Союза защиты Учредительного собрания»), но нарком юстиции лично освободил их. 19 декабря 1917 г. этот инцидент был вынесен на заседание правительства. Совнарком принял резолюцию, предложенную В. Лениным и И. Сталиным, в которой подчеркивалось, что изменения постановлений ВЧК «допустимы только путем обжалования этих постановлений в Совет Народных Комиссаров, а никоим образом не единоличными распоряжениями комиссара юстиции».
Не имея реального контроля за деятельностью Всероссийской чрезвычайной комиссии, глава НКЮ и ЦК ПЛСР потребовали ввести в ее состав левых эсеров. Этот вопрос был вынесен на рассмотрение СНК. 8 января 1918 г. Совнарком утвердил четырех членов ВЧК от левых эсеров: П. А. Александровича (он стал товарищем председателя комиссии), М. Ф. Емельянова, Д. В. Волкова и П. Ф. Сидорова. В марте 1918 г. левые эсеры составляли 7 из 21 члена коллегии ВЧК, т. е. треть ее членов.
Включение левых эсеров в Чрезвычайную комиссию стало поворотным моментом во взаимоотношениях ВЧК с НКЮ, да и в целом с партией левых социалистов-революционеров. Тем не менее, сразу разногласия устранить не удалось, как в силу того, что левые эсеры не успели еще освоиться с новым для них положением ВЧК, так и из-за позиции Дзержинского, который был настроен на решительное ужесточение борьбы с контрреволюцией и расширение полномочий ВЧК.
Тем временем резко обострилась ситуация на фронте. 21 февраля 1918 г. в связи с немецким наступлением Совнарком издал декрет — воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». Он обязывал Советы, другие организации направлять все силы на дело «революционной обороны», уничтожать при отступлении советских войск пути сообщения, продовольствие, имущество, провести мобилизацию и т. д. 8 пункт декрета гласил: «Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления».
23 февраля 1918 г. ВЧК опубликовала сообщение о том, что она, основываясь на декрете Совнаркома, будет использовать такой метод борьбы как расстрел. Комиссия доводила до сведения граждан, что если до сих пор она была великодушна к «врагам народа», то теперь, когда «гидра контрреволюции наглеет с каждым днем…, ВЧК не будет знать пощады к противникам Советской власти. <...> Все неприятельские агенты и шпионы, контрреволюционные агитаторы, спекулянты, организаторы восстаний…, продавцы и скупщики оружия..., будут беспощадно расстреливаться отрядами комиссии на месте преступления».
Хотя декрет «Социалистическое отечество в опасности!» и предусматривал расстрел на месте преступления, тем не менее, до лета 1918 г. чекистскими органами в центральной России он применялся сравнительно не часто. Всероссийская ЧК вообще использовала свое право на расстрел лишь единожды и то в отношении не контрреволюционера, а бандита, прикрывавшегося поддельным удостоверением чекиста. Факты массовых расстрелов, расправ с офицерами и юнкерами имели место главным образом там, где шли вооруженные столкновения, особенно на юге России. Что же касается Петрограда, Москвы, других крупных городов и губернских центров, то здесь расстрелу подвергались прежде всего бандиты, грабители и крупные спекулянты. К политическим противникам Советской власти эта мера официально применялась редко. В целом за первые семь месяцев своего существования ВЧК официально приговорила к смертной казни 27 человек.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Александр Зданович Тайные службы России : структуры, лица, деятельность [учебное пособие] обложка книги](/books/430623/aleksandr-zdanovich-tajnye-sluzhby-rossii-struktur-cover.webp)



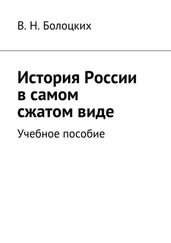
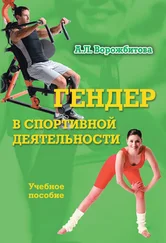
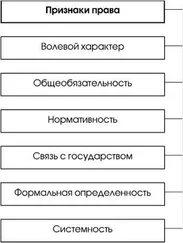
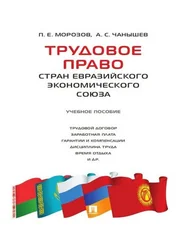

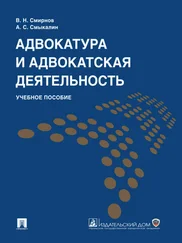
![Андрей Романов - Теория и психология рекламной деятельности [учебное пособие]](/books/398226/andrej-romanov-teoriya-i-psihologiya-reklamnoj-deyate-thumb.webp)