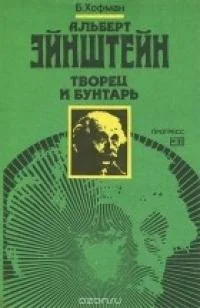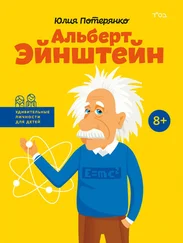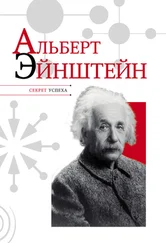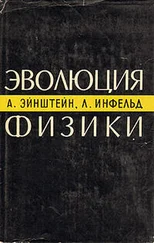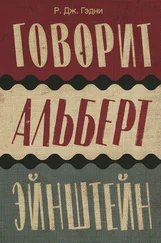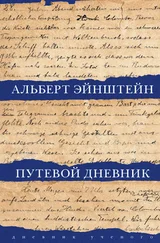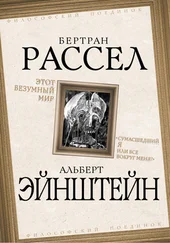Теперь все в порядке. Но какими же средствами избавился Эйнштейн от бесконечных расстояний? Вновь помогли математики — в геометрии уже были разработаны нужные для этого теоретические средства. В новой модели Вселенной Эйнштейна трехмерное пространство имело конечную протяженность, но не имело границ. Чтобы представить это наглядно, давайте сначала вообразим пространство не с тремя, а с двумя измерениями — например, плоскость бесконечной протяженности. Бели мы захотим избавиться от бесконечных расстояний на этой плоскости, можно ограничить какую-либо область и объявить все находящееся за ее границами вне закона или же можно отрезать все лишнее, а остаток будет иметь края, как, например, страница этой книги. А теперь рассмотрим поверхность шара. Она ограничена, не имеет бесконечной протяженности. Но вместе с тем на ней нет ни краев, ни границ, ни областей «вне закона». В самом деле, все точки на поверхности шара одинаковы: ничего напоминающего центр там нет.
Нет центра? Это, безусловно, не так.
Но это так. Все знают, что у шара есть центр, но этот центр — не на поверхности. Вспомним: нам нужен наглядный образ, вот почему мы оперируем двумя измерениями, а не тремя. А коли так, нужно быть последовательными. Мы должны представить себе не только пространство, но и звезды, и самих себя — одним словом, все вообще — двумерными и помещенными лишь на двумерной поверхности шара. Поверхность — это все наличное пространство. Все то, что мы привычно считаем находящимся внутри шара и снаружи его, исключается — приходится считать, что ничего этого попросту нет. Это уже нелегко представить себе.
Тем не менее предположим, что нам это удалось. В таком случае мы построили двумерное пространство — поверхность шара, — имеющее конечную протяженность, но все же без границ, без центра и без отторженных областей. Следующим шагом будет переход от двумерной картины к трехмерной, но давайте специально откажемся представлять себе этот переход наглядно. Эйнштейн воспользовался формальной математической аналогией, как это принято в геометрии. Есть трехмерное космическое пространство, не имеющее ни центра, ни границ, но обладающее лишь конечной протяженностью, и Эйнштейн добавил к нему четвертое измерение — время, — не искривленное и бесконечное.
Исключив таким образом бесконечные пространственные расстояния, Эйнштейн блестяще решил стоящую перед ним космологическую проблему. Но при этом он попутно выдвинул другие. Его сглаженная модель Вселенной, взятая в целом, обладала абсолютным покоем, абсолютным временем и абсолютной одновременностью. Дело в том, что она основывалась на приблизительном допущении, что звезды по отношению друг к другу находятся в состоянии покоя. В силу этого допущения они могли бы все вместе играть неблагодарную роль космической системы отсчета в состоянии абсолютного покоя, и в этой системе отсчета одновременность можно было считать абсолютной.
Не может не вызвать удивления то, что сам Эйнштейн вновь ввел понятие абсолютного покоя и абсолютной одновременности. Решая стоящую перед ним космологическую проблему, он явным образом принялся разрушать все, что возводил ранее. Но Эйнштейн знал, что делает. Ничуть не менее катастрофическим был осуществленный им в свое время переход от специальной к общей теории относительности, когда он отказался от постоянства скорости света. Если отвлечься от космологических вопросов, то к сделанному им ранее претензий быть не могло. Что же касается абсолютного космического времени и абсолютного космического покоя, то Эйнштейн готов был пожертвовать ими для того, чтобы получить возможность рассматривать Вселенную в целом. Да и тем, кто занялся позже обобщением работы Эйнштейна, пришлось пойти на аналогичные жертвы.
Но почему вообще понадобились какие-то жертвы? А все потому, что Вселенная у нас только одна. Когда универсальные принципы, какими бы они ни были весомыми, применяются к единственному наличному объекту, они неминуемо становятся специальными. Универсальными их делает как раз возможность применения в разнообразных ситуациях. А когда мы осмеливаемся взяться за изучение Вселенной в целом, откуда взяться разнообразию?
Источник его — в нас самих, звезды тут ни при чем. Моделей Вселенной, разработанных для удовлетворения эстетических потребностей, оказалось даже слишком много. В то время Эйнштейну это не было известно. Не знал он также и того, что звезды ввели его — да и не только его — в заблуждение, а то, что считалось наблюдаемым фактом, окажется ложным.
Читать дальше