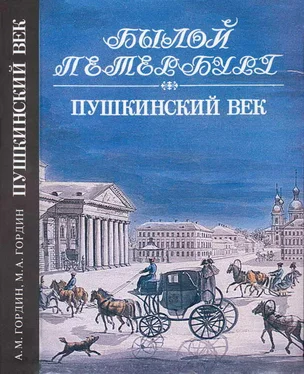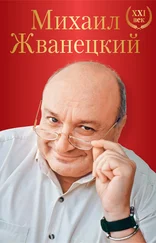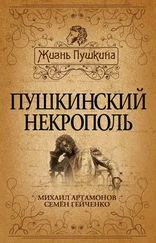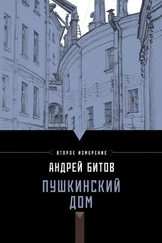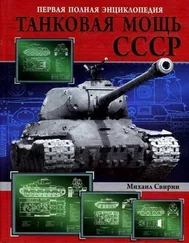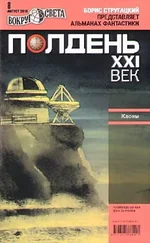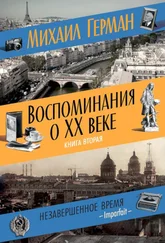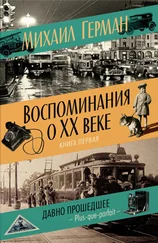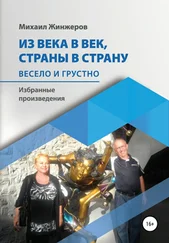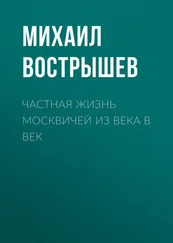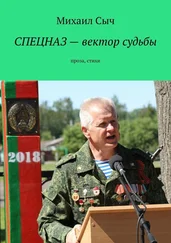Он ощущал архитектурные громады как затвердевшее, увековеченное время, и враждебность этой гордой незыблемости бренному людскому существованию чудилась ему порою в монументальных петербургских строениях. Так, рассказывая в поэме «Домик в Коломне» о незаметных жителях столицы — вдове-чиновнице и ее дочери, — Пушкин упоминает и о судьбе их смиренной лачужки, уступившей место куда более обширному и внушительному сооружению:
Дни три тому туда ходил я вместе
С одним знакомым перед вечерком.
Лачужки этой нет уж там. На месте
Ее построен трехэтажный дом.
Я вспомнил о старушке, о невесте,
Бывало, тут сидевших под окном,
О той поре, когда я был моложе,
Я думал: живы ли они? — И что же?
Мне стало грустно: на высокий дом
Глядел я косо. Если в эту пору
Пожар его бы охватил кругом,
То моему б озлобленному взору
Приятно было пламя. Странным сном
Бывает сердце полно…
Благодаря описаниям и многим изображениям города, оставленным современниками, можно довольно точно определить, как выглядела и как существенно менялась панорама Петербурга.
Окинем взглядом этот постепенно преображавшийся ландшафт и отметим те примечательные строения, которые появились в городе на глазах Пушкина. Вообразим себя в Петербурге середины 1830-х годов.
Как ни велик был град Петров, но с относительно невысокой смотровой площадки посреди столицы — с верхней террасы башни Адмиралтейства — открывалась вся картина города, вплоть до дальних его окраин.
Само здание Адмиралтейства — топографический центр столицы — после перестройки его в 1806–1823 годах стало и архитектурной сердцевиной Петербурга. Зодчий А. Д. Захаров счастливо нашел формулу, соединившую заветы уходящего века и стремления нового. Здесь впервые воплотились те грандиозные великодержавные идеи, что были потом развиты в классических столичных ансамблях и стали неразрывны с понятием «петербургская архитектура»: настежь распахнутые просторы Невы и парадных площадей, спорящая с ними бесконечная гладь мощных стен с уходящими вдаль рядами окон. Шеренги стройных белых колонн. Дерзко вычерченные пролеты огромных арок. И всегда во всем — математическая точность, ясность, соразмерность.
Стоя на восточной террасе адмиралтейской башни, наблюдатель прежде всего видел Дворцовую площадь. До конца 1810-х годов всю ее сторону, противоположную Зимнему дворцу, занимал ряд разноликих домов. В 1820-е годы их сменило широко развернувшееся здание Главного штаба. Оно вырастало на глазах Пушкина. Строил его архитектор Карл Росси. Художественные идеи, предложенные Захаровым, он применил с блестящим искусством.
В 1834 году по проекту архитектора Огюста Монферрана в центре площади воздвигли Александровскую колонну — цельный гранитный столб с фигурой ангела на вершине. Высота памятника — 47,5 метра. Тогда это было самое грандиозное в мире сооружение такого рода: выше колонны Траяна в Риме, выше Вандомской колонны в Париже.
Восточную сторону площади занимало длинное двухэтажное здание Экзерциргауза, к которому примыкал большой двор, обнесенный невысокой оградой. В ненастную погоду в Экзерциргаузе обучали солдат строевым движениям — «экзерцициям». Примечательно, что здание это располагалось подле самого царского дворца.
Выше по Неве, соединенное с Дворцовой площадью Миллионной улицей, открывалось Марсово поле (Царицын луг) — широкое и пустынное. По обеим сторонам его поднимались здания Мраморного дворца и Михайловского (Инженерного) замка. В пушкинское время и эта площадь получила свое архитектурное завершение, когда в конце 1810-х годов по проекту В. П. Стасова здесь было построено здание Павловских казарм. Узкая лента Лебяжьей канавки отделяла Царицын луг от старинного Летнего сада.

Вид на Петропавловскую крепость и набережную. Панорама Петербурга А. Тозелли. 1817–1820 гг. Фрагмент.
Далее на берегу Невы возвышался пятиглавый собор Смольного монастыря. По соседству с ним располагалось здание Смольного института.
Район города, примыкавший к Смольному, — самую высокую часть города — в просторечии именовали Песками: из-за редкого для столицы сухого песчаного грунта.
За Смольным, на правом берегу Невы, среди лугов и перелесков виднелись избы охтинских селений.
Взглянув в другую сторону — вниз по течению Невы, — наблюдатель видел перед западным фасадом Адмиралтейства огромную Петровскую (или Сенатскую) площадь с памятником Петру и соседнюю с нею Исаакиевскую площадь.
Читать дальше