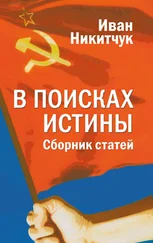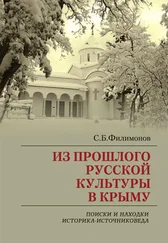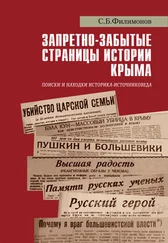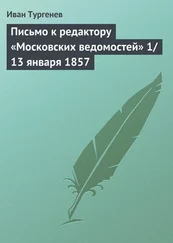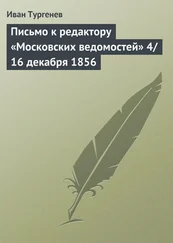Однако исследователю необходимо помнить, что атрибуция, как правило, осуществляется на основе комплекса данных и поэтому все направления работы по установлению авторства произведений тесно взаимосвязаны.
Немало случаев, когда анализ идей, стиля и языка текста, изучение биографических реалий, псевдонимов и т. д. предвосхищают позднейшее обнаружение достоверных документальных данных. Но и к документу нужно относиться осторожно, нельзя его фетишизировать.
При отсутствии творческих рукописей особую роль приобретает анализ идейно-образного содержания, стиля и языка произведения, а также другие приемы атрибуции (разыскания по псевдонимам, метод библиографических разысканий, метод исключения имен, дат, событий, анализ использования литературных цитат, расположения материала и др.). При этом необходимы исторический, биографический, текстологический анализы памятника, устанавливающие достоверность всего комплекса атрибуционных доводов.
Большую роль при атрибуции играет установление школы, течения, к которым мог бы принадлежать автор изучаемого текста, анализ социально-исторической обстановки, в которой создавалась рукопись, привлечение архивных данных. Интересно и то, что биографические реалии нередко извлекаются из текста (упоминания о местах действий и событиях, связанных с автором, о лицах его окружения и т. д.).
Разыскания новых литературных фактов нередко позволяют сделать новые выводы и обобщения, обогащающие литературоведение и книговедение. Например, атрибуция четырех стихотворений А. И. Одоевского в журнале «Иллюстрация» (за подписью А. О.) позволила книговедам глубже представить общее содержание и политическую платформу журнала. А каждое значительное открытие подобного рода расширяет представление о месте и роли литературы, журналистики в жизни общества.
«Литература изъята из общих законов тления», — писал М. Е. Салтыков-Щедрин. Цель литературной эвристики — спасти от «законов тления» забытые страницы великих мастеров пера.
В практике атрибуции нередко возникают гипотезы о принадлежности памятников литературы XIX века тому или иному автору. Гипотеза должна не предшествовать научному поиску, а появляться как результат творческой работы. Без гипотез в науке не может быть движения. Но гипотезы нужно выдвигать, основываясь на строго проверенных материалах. Смелость гипотез должна строго сочетаться с объективностью истолкования всех добытых атрибуционных данных. Только при соблюдении этих условий гипотеза может превратиться в факт.
РЕЛИКВИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА РОДИНУ
Приземистое, маленькое здание на берегу Темзы. Пасмурным лондонским утром сюда спешили на очередной аукцион коллекционеры картин, гобеленов, рукописей и других предметов антиквариата. В каталоге рукописей, продающихся с публичного торга, значилось три письма Антона Павловича Чехова. Состязание коллекционеров, желающих приобрести эти письма, длилось недолго: один из них назвал баснословную сумму — тысячу сто фунтов стерлингов [19] См.: Литературная Россия, 1977, 18 ноября.
. Сделка состоялась. Письма Чехова стали собственностью коллекционера. И кто знает, будут ли опубликованы они? Попадут ли когда-нибудь в архивохранилище, где будут тщательно описаны?.. Каким образом эти письма оказались в Лондоне?
Автографы русских писателей попадали за границу в силу самых различных причин. Иногда их увозили родственники и наследники писателя. Иногда сам писатель. Например, И. С. Тургенев долгие годы жил за границей, потому почти весь его архив находился во Франции. А некоторые автографы были украдены и вывезены из России...
Из архива А. М. Верещагиной, кузины М. Ю. Лермонтова, американский библиограф С. Болан приобрел три альбома поэта. За океаном, в Колумбийском университете, оказался альбом с рисунками Лермонтова и несколькими его автографами; в их числе: «Звезда» («Одна вверху горит звезда...»), «Ангел», «Когда к тебе молвы рассказ...», «Я не люблю тебя...», «Отворите мне темницу...», «У ног других не забывал...», «Зови надежду сновиденьем...», «По произволу дивной власти...» [20] См.: Иностранная литература, 1964, № 10, с. 272.
.
За границей долгие годы хранилась переписка (1830—1836) Пушкина с Натальей Николаевной Гончаровой, которая подарила эти письма своей младшей дочери, Наталье Александровне (1836—1913). В 1866 году книгоиздатель Я. Исаков, готовивший переиздание сочинений поэта, обратился к Наталье Александровне с просьбой о приобретении у нее писем, но получил отказ. Она решила продать находящиеся в ее руках письма отца в какой-нибудь журнал. Наталья Александровна обратилась к романисту Болеславу Маркевичу с просьбой посодействовать публикации писем. В письме от 13 декабря 1866 года Маркевич сообщает своему корреспонденту М. Н. Каткову: «Наталья Александровна Дубельт, дочь Пушкина, желала бы, вследствие стесненных обстоятельств, продать в какой-либо журнал имеющиеся у нее 73 письма отца ее к матери. Я читал их, все они весьма интересны: к сожалению, кое-что придется из них повыкинуть. Пушкин страдалец» [21] Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, отдел рукописей, ф. 120, (М. Н. Каткова), карт. 25, ед. 4, л. 142 (далее: ГБЛ, ОР
.
Читать дальше
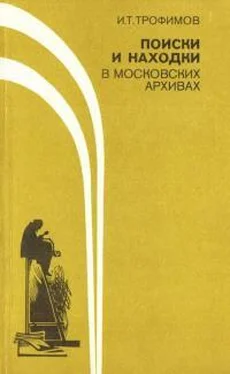
![Иван Божерянов - Великая разруха Московского государства, 1598–1612 гг. [с иллюстрациями]](/books/34973/ivan-bozheryanov-velikaya-razruha-moskovskogo-gosudar-thumb.webp)
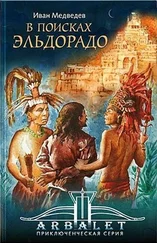
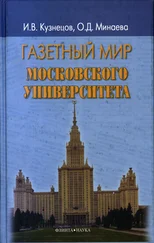
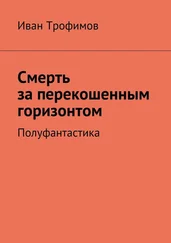


![Александр Анушкин - Рассказы о старых книгах [Поиски, находки, загадки]](/books/407965/aleksandr-anushkin-rasskazy-o-staryh-knigah-poiski-thumb.webp)