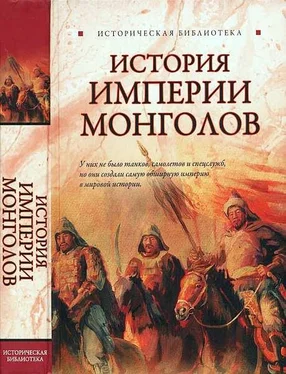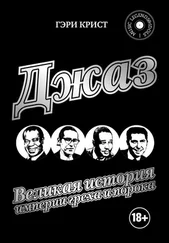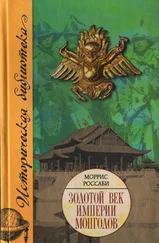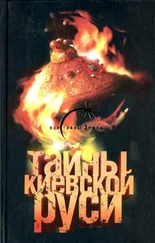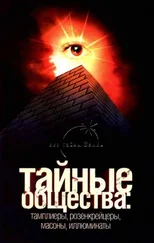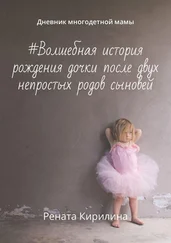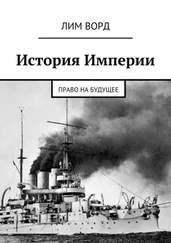Интересно, что материальные предметы зоргольской культуры встречаются как на обширной территории, так и в значительном временном промежутке — от I до IV вв. нашей эры. Ученые считают, что именно в эту эпоху и появилось предание о древней родине всех монголов — Эрдене-Кун. В памятниках древней культуры очень заметен один мотив — бегства племени от какого-то сильного противника.
По мнению ученых:
«Эргунэ-Кун приняла беглецов и обеспечила их необходимыми условиями существования (охотой, рыбной ловлей, скотоводством и т. д.). Все эти виды занятий фиксируются по материалам сяньбийских погребений Приаргунья. Однако время обитания каждой из групп сяньби в Эргунэ-кун, а в целом на территории юго-восточного Забайкалья и Северной Маньчжурии было различным. Одни из них вырвались на просторы монгольских степей уже в первой половине II в. вместе с ханом Тань-шихуаем; другие (тоба) во главе со старейшиной Туйинем в конце Не переселились на юг к Большому озеру (Далайнору), а в III в. заняли земли хуннов к северо-востоку от большой излучины Хуанхэ. Остальная же часть сяньбийских родов осталась в местах прежнего обитания, пережидая бурное время тюркских завоеваний. Именно эта часть древних монголов и составила во второй половине 1 тыс. н. э. этноплеменную группировку шивэй (отуз-татар), враждебную тюркским ханам, но союзную их противникам. С частью указанных племен шивэй связаны на территории Восточного Забайкалья памятники борхо-туйской археологической культуры (VI–X вв.). В погребениях этой культуры фиксируются многие черты, свойственные культуре ранних сяньби, но вместе с тем проявляются элементы, обусловленные, с одной стороны, специфическими условиями обитания в горно-таежной местности (с особой фауной и флорой), а с другой — долговременными контактами с тунгусоязычными племенами Приамурья и тюркоязычными племенами Западного Забайкалья и Монголии. Именно эти черты были присущи многим монгольским родам до выхода основной части их в XI в. на просторы монгольских степей».
К XI веку на этой территории уже шел активный процесс образования монгольских государств киданей, и уже наметилось разделение монгольских племен, будущая вражда. В монгольском мире выделились более цивилизованные кидани и — менее цивилизованные — «дикие» монголы, то есть белые и черные монголы китайских хроник. Дикие монголы не могли противостоять киданям и вынуждены были отойти в горные районы Большого Хингана и Восточного Забайкалья. Причем, кидани так «хорошо» относились к своим сородичам, что даже выстроили защитную границу, чтобы оградить себя от возможных нападений. По словам археологов, эта граница представляла из себя «фортификационную линию: высокий вал со рвом и частоколом и серию укрепленных пограничных городков-форпостов, располагавшихся с южной стороны от вала на расстоянии 20–25 км друг от друга», вал тянулся от верховий реки Онон до среднего течения Аргуни и долгое время спустя именовался не иначе чем «вал Чингисхана», хотя к самому Темучину не имел ровно никакого отношения. А дикие или черные монголы оказались «выселенными» в северо-западную Манчжурию и степи Забайкалья, откуда под их давлением вынуждены были уйти прежде обитавшие там тюркские племена.
Об этом времени исхода из Эргене-кун сохранилась легенда, пересказанная Банзаровым по арабским источникам: «Произошла кровопролитная война, окончившаяся совершенно истреблением монголов. Из всего народа осталось только двое мужчин… две женщины… и укрылись в долине Эргунэ, или Эргунэ-хон. Здесь в продолжение четырехсотлетнего пребывания поколение монгольское так размножилось, что уже не могло помещаться в долине и искало из нее выход, но тропинку, по которой предки пробрались в долину, потомки забыли».
Рашид-ад-Дин рассказывает продолжение этой легенды так:
«Когда среди тех гор и лесов этот народ размножился и пространство [занимаемой им] земли стало тесным и недостаточным, то они учинили друг с другом совет, каким бы лучшим способом и нетрудным [по выполнению] путем выйти им из этого сурового ущелья и тесного горного прохода. И [вот] они нашли одно место, бывшее месторождением железной руды, где постоянно плавили железо. Собравшись все вместе, они заготовили в лесу много дров и уголь целыми харварами [1] Харвар — старинная мера веса «ослиный вьюк», в XIII в. был равен 80 кг.
зарезали семьдесят голов быков и лошадей, содрали с них целиком шкуры и сделали [из них] кузнечные мехи. [Затем] сложили дрова и уголь у подножья того косогора и так оборудовали то место, что разом этими семьюдесятью мехами стали раздувать [огонь под дровами и углем] до тех пор, пока тот [горный] склон не расплавился. [В результате] оттуда было добыто безмерное [количество] железа и [вместе с тем] открылся и проход. Они все вместе откочевали и вышли из той теснины на простор степи. Говорят, что раздувала меха главная ветвь [племени], восходящая к Кияну.
Читать дальше