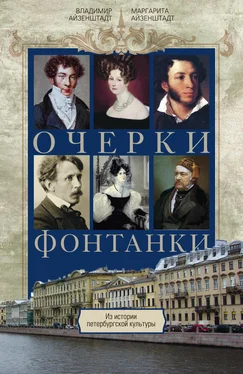«Любовь – это сильные белые крылья».
«Любовь – это дорога к солнцу, мощеная острыми алмазами, по которой должно идти босиком».
«Любовь – это старая песенка» [281].
Да, недопетая песня… Оперы он написать так и не успел…
Фуги, прелюды и сонаты – вот любимые формы музыки Чюрлёниса…
Ландсбергис считал, что Чюрлёнис не ограничивал музыкой возможности применения сонаты. «Своей жене, – пишет Ландсбергис, – он… даже написал… нечто вроде маленькой поэмы, которую можно назвать „Сонатой осени“».
Вот отрывок из нее, в русском переводе С. Чюрлёнене-Кимантайте, его жены:
Осень. Опять сыплет дождь, неторопливо опадают листья,
Кружат вокруг и ложатся на траву,
На кусты, на тропинки.
Все равно. Один умерший лист
Коснулся, скользя, моего лица,
Руки, а потом упал тут же
Под ногами, так, что переступил осторожно,
Чтобы не растоптать его.
Осень и грусть по всей земле,
А через грядки и поляны идет человек
С мешком на плечах и с граблями в руке,
И стучится напрасно в дома,
Идет дальше и стучится все дальше и дальше,
Везде напрасно.
Дома пусты, и окна забиты досками.
Ничего, что прежде тут жили люди,
Что из окон смотрели дети, смеялись.
Сейчас окна забиты, потому что дома пусты, что осень.
Так, осень. И сад покинут. И деревья шумят и плачут,
И небо серое-серое, и такое грустное,
Как только душа может грустить.
Осень [282].
Что это? Эскизный пример для жены (ведь она пишет либретто – применение сонатной формы в литературе) как, похоже, считает Ландсбергис? Или поиски перехода из музыки в живопись: от сонаты музыкальной к сонате живописной через сонату литературную? Или просто – выплеск душевного состояния в привычной для него форме?
И небо серое-серое, и такое грустное,
Как только душа может грустить…
В начале декабря 1909 года Чюрлёнис сообщал жене: «Сегодня Добужинский рассматривал мои картины, был обрадован ими и решил взять пять из них с собой в Москву, хотя и не обнадеживает, что они будут выставлены. Во-первых, уже несколько поздно, могут сказать, что нет места; во-вторых, хотя выставку готовит Союз, в Правлении верховодят консерваторы: Переплетчиков, Виноградов, барон фон Клодт… Говорят, что они сопротивлялись моему приглашению, приглашению Уткина и других крайних молодых художников. Добужинскому больше всего понравились мои „Ангелочки“, эти с цветочками и бабочками. После них – „Ангел“, тот, сидящий с красноватыми крыльями, – цветы и листья…
Вечером я зашел к нему – картины очень понравились всей семье. Потом пришел Сомов, тоже все посмотрел, но к похвале Добужинского не присоединился. Он сказал, что „Да, это очень красиво, но, Николай Константинович, вы как будто ближе к земле сделались – в этом году ваши картины более понятны“. Мне кажется, он прав. Добужинский находит, что картины в этом году „содержательны и глубже“, но это как-то не убеждает меня. Как думаешь ты? Вероятно, правда на стороне Сомова. Буду злиться на себя до тех пор, пока не нарисую что-либо хорошее» [283].
«Мы знаем теперь, – отмечал С. Маковский, – что это предвещало серию дивных „сказок“ Чурляниса, появившуюся в „Союзе“ 1910 года. Эти „сказки“, написанные темперой с примесью пастели, – подлинное волшебство. Перед нами уже не схемы и не ребусы, не графические построения музыканта, а видения художника, в душе которого вечно звучат странные и жуткие мелодии. „Сказки“ Чурляниса – галлюцинации, прозрения по ту сторону реальных предметов, реальной природы. Они поражают не сказочным вымыслом, а своей иррациональностью. Не декоративно выдуманы, а вдохновенно иррациональны эти фантастические конусы гор с дымящимися алтарями, неясные ряды все выше и выше в безмерность пространства вздымающихся пирамид, это белое полукружие райской лестницы, уходящей невидимо для нас в небо, это нагромождение, противоречащее всем законам тяжести, кошмарных зданий, над которыми вещий горит закат… Все вызывает в нас ощущение каких-то далеких, зарубежных перспектив, ощущение метафизических возможностей, скрытых в формах нашей, земной действительности.
Картины Чурляниса не для трезвых скептических душ…» [284].
Он жил, погруженный в красоту природы, его интересовала каждая мелочь, каждая веточка могла стать объектом его наблюдения. «Однажды, помню, – рассказывала его жена София Кимантайте, – сидели мы на невысокой дюне, неподалеку от горы Наглис. От солнца порозовело небо, и неожиданно над нашими головами поплыли удивительные облака – корабли с распущенными парусами, палевыми, надутыми ветром, окрашенными в розовый цвет. Скользят… Скользят… Гордо… – Посмотри, твои картины, – показала я. Я видела, вижу еще и сегодня, как он вскочил и вглядывался, совершенно забывшись, упиваясь этим небесным чудом» [285].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу