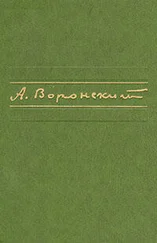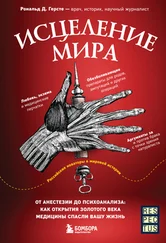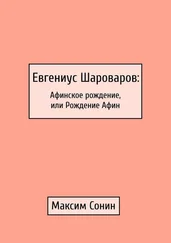В конце концов Кокрофт и группа работников из Кавендишской лаборатории посетили Баудсэй — имение на восточном побережье (здесь сооружалась первая действующая модель радара, известная тогда под сокращенным названием РДФ). «Там мы встретили Ватсон-Ватта, который ознакомил нас с РДФ,— вспоминает Кокрофт.—Нам рассказали об основных элементах импульсной техники; продемонстрировали, как определять направление самолета и его высоту, и поделились мыслями о том, каким путем можно установить радары на самолетах для обнаружения надводных кораблей и других самолетов и как изготовить наземные установки для управления огнем артиллерии. Нам показали станцию обнаружения с ее деревянной почти стометровой башней. В поле мы видели самую первую зенитную артиллерийскую установку с радаром. Мы уехали взволнованные этим первым знакомством с новой военной техникой».
Все это происходило в 1938 г. В начале 1939 г. физики из Кавендишской и Кларендонской лабораторий занялись разрешением проблемы радара. Ватсон-Ватт приезжал в кавендишский коллектив, где обсуждал способы создания помех, с помощью которых противник мог попытаться парализовать действие новой аппаратуры. «Мы придумали миниатюрные баллоны для того, чтобы выбрасывать их тысячами и создавать помехи работе аппаратуры, и всякие другие вещи... В 1943 г. мы использовали все это против врага»,— поясняет Кокрофт. Многие аналогичные разработки велись в Оксфордском и других университетах, где физики энергично трудились над решением проблем, разраставшихся вместе с расширением возможностей радара.
Утром в страстную пятницу 1939 г., вскоре после того, как Ферми написал адмиралу Хуперу относительно возможности использования ядерного деления для изготовления оружия и когда Германия уже схватила в свои когти Чехословакию, кольцо радарных установок, сооруженных вдоль британского побережья, вступило в действие. К этому времени у большинства британских ученых не могло больше оставаться сомнений в том, что война теперь практически неизбежна. Все мысли и усилия надо было концентрировать на радаре, единственном средстве, которое, казалось, могло дать некоторые шансы на успешную защиту от ожидавшихся массированных воздушных атак.
Такое сосредоточение усилии британских физиков не исключало, конечно, ядерных исследований; но это неизбежно отодвигало их назад в списке очередности, увеличивавшемся всю весну и лето 1939 г. Попытку продолжать французские эксперименты фактически предпринял лишь Дж. П. Томсон, и замечательно, что она была сделана в Имперском колледже науки и техники, где Томсон был профессором физики, а Тизард — ректором.
Дж. П. Томсон—сын великого Дж. Томсона — видел войну в полной мере раньше, когда в 1914 г. отказался от чтения лекций и вступил в армию. Томсон возвратился в Кембридж после войны, выполнил в Кавендишской лаборатории экспериментальные исследования по аэродинамике, где еще его отец работал вместе с Резерфордом, и в 1930 г. был назначен профессором физики в Имперском колледже науки и техники.
Именно здесь Томсон прочитал в журнале «Нэйчур» о работах коллектива Жолио-Кюри в Париже. «Я начал думать о некоторых экспериментах с ураном,— рассказывает он теперь.— И то, о чем думал, представляло нечто большее, чем чисто академические исследования, поскольку в основе моих
раздумий лежали мысли о возможности создания оружия».
Для проведения экспериментов Томсону требовалось относительно большое количество окиси урана. «Мне нужна была примерно тонна этого материала,— вспоминает ученый.— Он применялся в керамической промышленности, и я воображал, что фирме, изготовляющей керамику, такого количества могло хватить на год, т. е. в моем представлении это было не так- уж много». Однако получить тонну окиси урана Томсону удалось лишь к концу мая. Ему пришлось обратиться к Тизарду, который в свою очередь обратился к Дэвиду Пай, директору исследовательской организации при министерстве авиации. Проф. Пай решил, что эксперименты стоят того, и 22 мая Томсон получил письмо от него с сообщением, что одна тонна черной окиси урана ожидает его на складе ВВС в Хаммерсмите.
Вскоре окись урана была получена, и эксперименты начались. Они планировались и направлялись Томсоном и осуществлялись им самим и некоторыми другими физиками во главе с проф. П. Мууном, молодым ученым, лишь недавно назначенным профессором физики в Бирмингамском университете. Университет «отдал Мууна взаймы». Целью экспериментов было получение ответа на вопрос: можно ли осуществить продолжительную цепную реакцию, используя окись урана и воду или парафин в качестве замедлителя? «Наша основная работа заключалась в размещении окиси урана в чугунных сферах различных размеров,— рассказывает Томсон.—Что касается парафинового замедлителя, то мы пользовались пачками обычных елочных свечек, располагая их по-разному внутри сфер».
Читать дальше
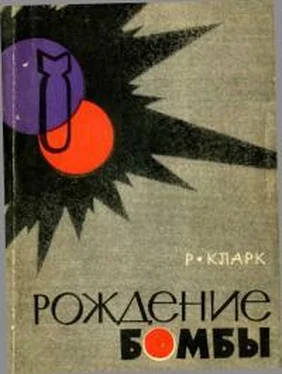
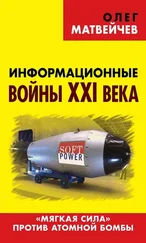
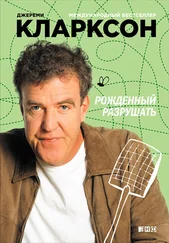
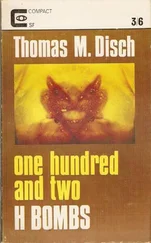

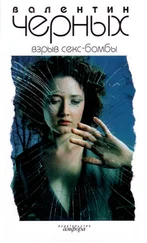
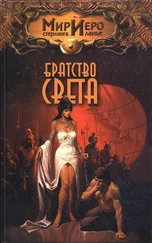
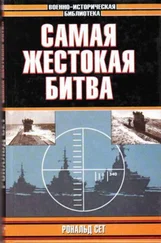
![Филип Дик - Доктор Бладмани, или Как мы стали жить после бомбы [litres]](/books/235423/filip-dik-doktor-bladmani-ili-kak-my-stali-zhit-p-thumb.webp)