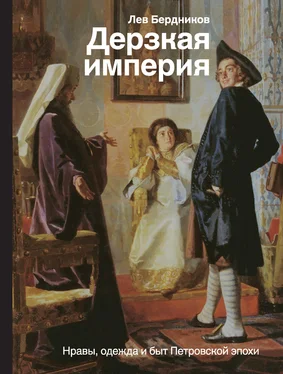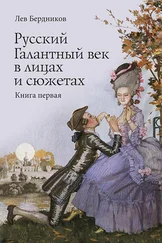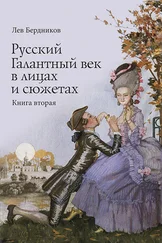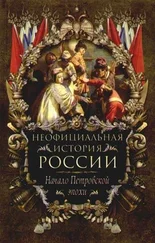Сохранившиеся сведения об этих прекрасных соперницах крайне скудны и отрывочны. Анна Белюцци (1730-?) прозванная «Ля Бастончина», выступала в труппе вместе со своим мужем, хореографом и композитором Джузеппе (Карло) Белюцци. Танцовщица широкого диапазона, она исполняла и серьезные (Прозерпина в «Похищении Прозерпины», Клеопатра в «Празднике Клеопатры»), и комедийные роли. А вот перед ее женскими чарами не устоял и такой искушенный сердцеед, как Джованни Казанова, состоявший с ней в любовной связи. Казанова был без ума от Анны, и когда станцевала ему фанданго, он вскричал в сердцах: «Что за чудо-танец! Он обжигает, возносит, мчит вдаль!»
Либера Сакко, уроженка Венеции, приехала в Петербург вместе с сестрой, балериной Андреаной (1715–1776), и знаменитым братом, Джованни Антонио Сакко (1708–1788), выдающимся педагогом, актером-импровизатором, эквилибристом и акробатом, главенствовавшим над балетной труппой итальянцев. Им было поставлено большинство балетов, а поскольку основной репертуар антрепризы Локателли составляли оперы-буфф, балетный репертуар тяготел к комедии. Впрочем, ставились и балеты на серьезные сюжеты. Либера представала то нежной нимфой Дафной (балет «Аполлон и Дафна»), то участвовала в спектакле «Убежище Богов, действие драматическое, представленное перед балетом Богов Морских». Современник Якоб Штелин аттестует ее «лукавая Либера», и такое определение вполне объяснимо. Дело в том, что «актрица» преуспела не только в служении Терпсихоре – натура наградила Сакко и недюжинными вокальными данными. Она выступала с неизменным успехом и в операх, и исполняла преимущественно партии героинь сметливых и лукавых. Это и задорная юная крестьянка Лесбина в опере «Сельский философ», и остроумная веселая сплетница Чекка («Учительница школы»), и другая Чекка, практичная домовитая крестьянка («Мыза, или Сельская жизнь»).
Особенно блистала Сакко в главной роли в «Героическом балете Психеи». Сила обаяния примы, безукоризненная пластика каждого шага и жеста, удивительная гармония и завершенность поз возбуждали у русской театральной публики «плеск во уши» (слово «аплодисменты» тогда еще в русский язык не вошло). По сюжету ослепительной красоте возлюбленной Эрота – Психее завидовала сама Афродита. Так и Психея – Сакко, по словам Ржевского, «красотой зажгла сердца и души» зрителей и возбудила острую зависть «неких дам». Возможно, о злословии императрицы в адрес балерины и прознал двадцатидвухлетний гвардейский сержант Ржевский, что и стало поводом его выступления в печати.
Что же одушевляло его действия? Мнения исследователей на сей счет разнятся: Леонид Майков полагает, что Ржевский был поклонником таланта примы, а историк Николай Энгельгардт убежден, что сержант был страстно влюблен в нее. Думается, что одно другого никак не исключает.
Обращает на себя внимание, что мадригал в поэзии Ржевского становится жанром исключительно любовным:
Скажи мне тайну ту, чем ты меня пленила, —
И я бы сделал то ж, чтоб ты меня любила.
Дар сердца своего недешево купил:
Своим тебе за то я сердцем заплатил.
То сердце, что взяла, опять мне возврати,
Или за то своим мне сердцем заплати.
Свои панегирики профессиональному искусству актрис поэт облекал исключительно в форму «Стихов». Чтобы понять эту тонкую разницу, достаточно сопоставить «Сонет и Мадригал» и его же, Ржевского, «Стихи девице Нелидовой…» и «Стихи девице Борщовой…». В «Стихах» Нелидова « естественной игрой всех привела в забвенье», а Борщова «зрителей сердца… пением зажгла», то есть внимание акцентируется исключительно на театральном мастерстве, а отнюдь не на внешних данных исполнительниц. Не то о Сакко, где ярко живописуется именно ее красота и притягательность:
Небесным пламенем глаза твои блистают,
Тень нежную лица черты нам представляют,
Прелестен взор очей, осанка несравненна…
Обращает на себя внимание еще один любопытный факт. Ржевский отдал немало сил шаржированию и пародированию щегольства. Он оппонировал своим культурным противникам – «гадким петиметрам» в самых различных жанрах (включая ложный панегирик и письмо), подвергая беспощадному сатирическому осмеянию их взгляды, мировосприятие, систему ценностей. За два года до написания «Сонета и Мадригала» он послал в «Ежемесячные сочинения» два стихотворения: «Сонет I. К красавцу» и «Сонет II. К красавице». Оба текста писаны от лица вертопраха, который «родился, как мнит он, для амуру, чтоб где-нибудь склонить к себе такую ж дуру». Но вот что примечательно: в мадригале, посвященном Сакко, повторены комплиментарные формулы одного из этих пародийных сонетов:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу