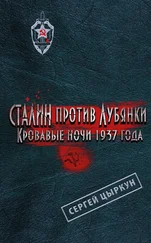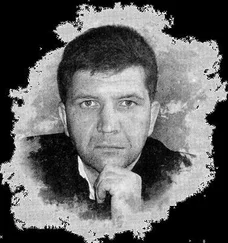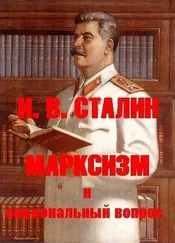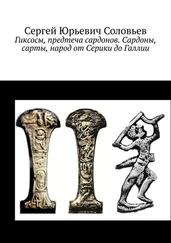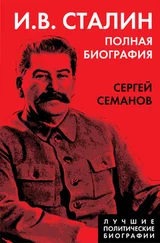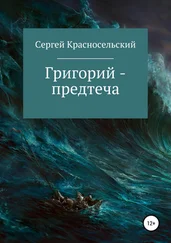Были и такие, что не ушли из партии, — к несчастью и для нее и для себя. Это были те, кто, несмотря на все усилия, не мог пристроиться у стола господ — не по недостатку желания, но от непригодности, от неудачливости. Это были Зиновьевы, Луначарские и другие. Они влачили жалкую богемную жизнь возле оставшегося верным революции вождя. Кое-как питались от оскудевшей партийной кассы, кое-что делали на истощенной ниве революции, но делали кое-как. Они не верили уже ни во что. Были такими же филистерами и обывателями, как их устроившиеся братья, даже худшими, пожалуй. Как все неудачники, они были озлоблены до мозга костей. Эту озлобленность, эту жажду мщения когда-то оттолкнувшему их от себя буржуазному миру они внесли потом в революцию. Это был самый страшный ее элемент — настоящие гиены революции.
Таково было большинство бывших революционеров, укрывшихся в годы реакции в тылу заграницы. Таких много было и внутри России, особенно в столицах, в среде интеллигенции.
Презрительно смотрел на них Сталин, представлявший действенное русское подполье, где, несмотря на весь нажим реакционных сил, несмотря на разгром организаций, тюрьмы и ссылку, шла борьба, вырастали новые люди, загорался новый энтузиазм.
XVI
Но и лучшие из эмигрантов не восхищали Сталина. Именно потому, что они были эмигранты, привилегированный в своем роде слой революционеров, аристократия движения, белоручки, белая кость. И еще потому, что жизнь за границей наложила на них свой отпечаток.
«Они неплохие, может быть, люди, — думал Сталин. — Но что общего имеют они все-таки с революцией, с Россией? От России и ее масс они оторвались, оевропеились, невольно омещанились. Если порыться в них глубже, то и их идеал — это только западный парламентаризм, в рамках которого так удачно можно совмещать служение социализму с благами буржуазной жизни. Они только понимают прекрасно, что при Столыпине — это невозможная вещь. Они умнее других — и потому они не идут сейчас на компромиссы…
Они говорят еще о революции. Но разве после стольких лет расслабляющей жизни за границей, вне реальной борьбы и реальных опасностей, они способны на настоящие революционные дела? — Конечно, нет. Они сделали из себя невольных героев тыла… Ведь у большинства из них нет сейчас даже крепких нервов, нет простого человеческого мужества. При встрече с настоящей опасностью они растеряются, не будут знать, что делать. И они еще претендуют на роль наших руководителей!..»
Он часто вспоминал одну сцену. Это было в революцию 1905 года. На собрание революционеров, только что приехавших из-за границы, пришел друг его, Камо.
Он шел легким кавказским шагом, улыбался своей детской улыбкой, такой странной на суровом лице, а в руке у него болтался завернутый в белую салфетку какой-то большой и круглый предмет.
Камо любил пошутить. Он подошел к столу, где готовилось чаепитие, поднял руку с салфеткой и, еще веселее улыбаясь, сказал:
— Бомба!
Все шарахнулись. Некоторые бросились к окнам и стали судорожно их раскрывать. А вдруг бомба взорвется!
Камо положил «бомбу» на стол, не торопясь, развернул салфетку.
— Зачем пугаться. Не надо пугаться. Это арбуз. Бабушка с Кавказа прислала. Кушайте.
С трудом оправившиеся от страха люди злобно смотрели на Камо.
— Что остроумного! Какая дикая шутка!..
Камо растерялся, виновато и непонимающе смотрел по сторонам.
Сталин подошел к нему.
— Пойдем, Камо, пройдемся…
Хотел добавить:
— Здесь нам нечего делать…
Но сдержался.
И эти люди хотели делать революцию! Разве там, на их родине, тамошние революционеры бросились бы к окнам при виде бомбы? Сколько раз и он и Камо несколько ночей подряд проводили в комнате, которая вся забита бомбами и динамитом. И прекрасно спали.
И это были еще лучшие из заграничников… Не люди, а какие-то оранжерейные цветы! Недаром под их слабыми руками ничего не вышло из первой революции.
Разве кто-нибудь из них выдержал бы напряженную, сводящую с ума работу в их подпольной типографии в Баку? Печатный станок стоял в душной и тесной комнате без окон, освещавшейся день и ночь спиртокалильной лампой. Чтобы проникнуть в типографию, надо было пройти в дом, стоявший совсем на другом участке. В этом доме жили наборщики и печатники вместе с их руководителем Трифоном Енукидзе. Из этого дома в типографию вел подземный ход, закрывавшийся бетонной дверью-западней, которую, не зная секрета, никто не мог ни заметить, ни открыть. Печатники и наборщики за все время их работы не имели права никуда выходить из дому. Время от времени им предоставлялся отпуск, но тогда они должны были в тот же день покинуть Баку. Таким образом, они жили вечными отшельниками, проводя все свои дни без света и воздуха, не имея никакой личной жизни. Люди надрывались на этой тяжелой работе, теряли здоровье, погибали от чахотки — но зато типография работала без провалов и снабжала революционной литературой весь Кавказ. Были способны на такой незаметный, но важный подвиг люди эмиграции? Нет. Они не выдержали бы и двух дней. Разве они способны выдержать вооруженное столкновение с солдатами? Способны организовать и провести экспроприацию денег в банке? Напасть на казенную почту, убить шпиона, полицейского, жандарма?.. А именно все это и было основным, по мнению Сталина, в профессии революционера: на делах, а не на теориях должны были воспитываться люди. А что, если будет-таки настоящая революция?.. Будут ли способны люди заграничной выучки вести гражданскую войну, командовать настоящими армиями?..
Читать дальше
![Сергей Дмитриевский Сталин [Предтеча национальной революции] обложка книги](/books/422959/sergej-dmitrievskij-stalin-predtecha-nacionalnoj-cover.webp)