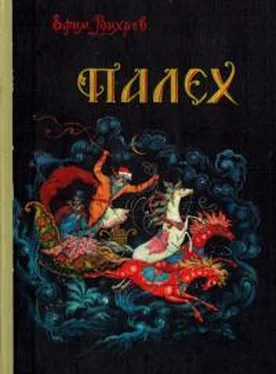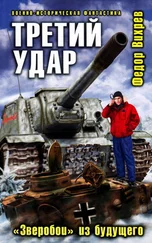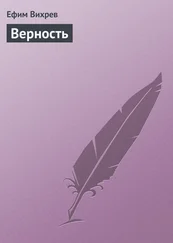Тридцать пять лет тому назад я выстроил этот дом и поселился в нем навсегда. Изредка, закончив какую-нибудь картину, я выезжал в Москву или в другие города и снова надолго уединялся в своем селе.
Дом, как видите, я построил с расчетом на мои профессиональные требования. Он стоит на возвышенном месте. Кроме обычных жилых комнат, у меня есть две очень светлые мастерские — зимняя и летняя, кабинет, библиотека и крыша-веранда, откуда открываются во все стороны разнообразные пейзажи. Окрестных пейзажей хватит для эскизов и картин на всю жизнь, потому что они всегда различны. Года, прожитые здесь, научили меня быть внимательным к природе: за тридцать пять лет не было такого дня, в который окрестные пейзажи были бы похожи на пейзажи какого-нибудь другого дня: времена годов и дней окрашивают и освещают их каждый раз по-новому, сообщают им каждый раз неповторимые композиции. Но я по преимуществу не пейзажист, а художник жанра и портретист. Моя излюбленная палитра — пастель, которая, мне кажется, лучше всего передает живую и неживую материю.
Выстроив дом, я зажил спокойной, трудолюбивой и созерцательной жизнью. Я только по-книжному знал, что удел великого художника — страдание, что жизнь великого художника всегда трагична.
У меня было много друзей — представителей разных художественных направлений и школ. Со мной дружили реалисты, к которым принадлежу и я, со мной дружили также и кубисты, лучисты, пуантилисты, супрематисты и прочие новаторы. От каждой школы я брал только то, что незыблемо и бесспорно, только красочные и линейные открытия, которые не противоречат величайшему из художественных направлений — реализму. (Такие открытия есть во всяком течении, до каких бы абсурдов оно ни дошло в своих исканиях.)
Среди друзей моих были и талантливые, и способные. Одних окрылял успех, другие оставались в тени и работали скромно и напряженно, третьи отчаивались и уходили на надежную практическую работу. Но среди друзей моих не было такого, в котором чувствовалось бы то, что принято называть гением. Да и сам я всегда знал, что обладаю обыкновенными человеческими способностями и только трудом, учением и терпением добился своих успехов. На практике я не знал, что значит — писать кровью, — эта формула была для меня лишь теоретической и не совсем вероятной...
Итак, я жил в этом селе тридцать пять лет, иногда выезжая, оживленно переписываясь с друзьями, приглашая их сюда и в общем чувствуя себя всегда здоровым и бодрым.
Но в первый же год жизнь столкнула меня с одним человеком. Он не был похож ни в чем ни на одного из моих друзей и он не открывал никаких новых школ. Он меня сразу же заинтересовал... Но странно: только теперь, про прошествии тридцати пяти лет, я понял, что имею дело с сильным самородком, с художником от слова «худог» (искусный, творец), но, к несчастью, с таким гением, которые всегда остаются в неизвестности и которым не суждено двигать за собой искусство...
Художник помолчал, что-то припоминая. Он то и дело брал ножницы и, повертев их на пальце, опять клал на стол.
— Послушайте, — сказал я, пользуясь молчаньем художника. — Этот человек был, наверно, каким-нибудь лесковским иконописцем, кисть его была микроскопически точна, и краски творил он по собственным рецептам? В этом краю так много бедных гениев...
— Нет, — ответил знаменитый художник, — этот человек совсем не знал краски... Но слушайте...
Однажды, тридцать пять лет назад, я работал у себя наверху. Была ноябрьская распутица — полуснег, полудождь, — так что каемка леса на горизонте совсем пропадала во влажном тумане. Работа у меня спорилась, как всегда: у меня не было особых неудач, не было и вдохновенных припадков в работе.
И вот в этот сырой осенний день ко мне постучали. Вошла кухарка и сказала, что на кухню пришел нищий. Кухарка ему подала, но он сказал ей, что ему нужно бы увидеть художника.
Я велел позвать человека.
Через минуту передо мной стоял, сгорбившись, человек лет сорока, огромный и неуклюжий, насквозь промокший, с подожком в руке. Я заметил, что одна нога у него короче другой, — он был хромой. С бороды его падали на пол капли влаги. За плечами висела сума. Войдя в мастерскую, человек снял свой выцветший картуз и опустил голову. Голова его была диким бурьяном волос, он весь был обросший и запущенный. Но глаза, очень маленькие, закутанные в меха бровей, сверкали остро и проницательно. Человек имел очень жалкий вид, он был беспомощен, как бывают беспомощны профессиональные нищие. Рубище его было настолько грязно и мокро, что я даже не предложил ему сесть. К тому же от него сильно несло дубьем и овчинами.
Читать дальше