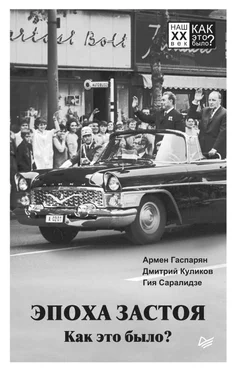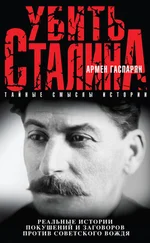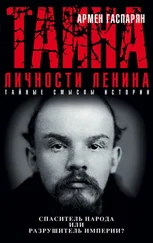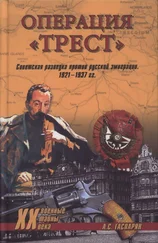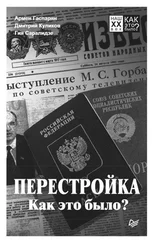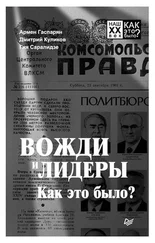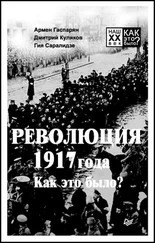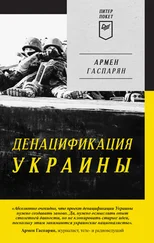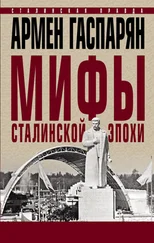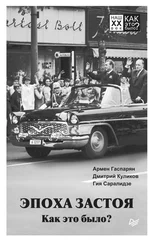Г. Саралидзе:А что вообще с торговлей? Ведь это же показатель того, развивается экономика или не развивается?
Д. Куликов:Оставить госторговлю, кооперативную торговлю развить и ввести коммерческую.
Г. Саралидзе:Что мешало? Консерватизм…
А. Гаспарян:Доктринерство мешало.
Д. Куликов:Доктринерство и догматизм. Нельзя было помыслить об этом. Казалось бы все просто: ты создаешь три сектора, а они между собой конкурируют. Все прекрасно! И все работает.
Г. Саралидзе:А почему тогда в перестройку не получилось? Вернее, запустили, но тут же потеряли контроль.
А. Гаспарян:Потому что надо было этим заниматься. А с нашей плановой торговлей… Вот самый простой пример. Представим, что вы – директора ювелирных магазинов. Вы план выполнили, и все сотрудники уже получили зарплату. Вам 21-го числа привозят крупную партию ювелирных изделий, а вы будете задерживать ее до начала следующего месяца, чтобы обеспечить себе план уже на следующий месяц. Вот так вот появляется дефицит. Так постоянно происходило. И абсолютно во всех отраслях советской торговли примерно одно и то же…
Г. Саралидзе:Мне все-таки кажется, что «застой» – правильный термин. Потому что вы говорите, что были объективные причины: замедление, торможение, некоторые рычаги влияния себя исчерпали. При этом были и выходы из сложившейся ситуации, но никто не хотел принять решение. Это и есть, по-моему, застой.
Д. Куликов:Только не надо вешать это на Брежнева. А то связали застой с брежневским правлением! Сталин сказал в 1936 году: «Мы в целом и основном социализм построили». Вывод: нужно делать следующий шаг проектирования. Но война, преодоление разрухи… Нам не до проектирования было. Когда он пытался писать работу об экономике при социализме, то не справился со следующим шагом проектирования. Не справились и все остальные. И в этом смысле застой можно считать застоем, начиная с восстановления хозяйства после войны. Потому что восстановление хозяйства – это последний двигатель. После никаких проектов не было.
Г. Саралидзе:Ну а проекты реформ конца 1960-х – начала 1970-х годов? Были ведь попытки внедрения экономических методов управления, расширения хозяйственной самостоятельности. Почему они провалились-то? В чем проблема была?
А. Гаспарян:В том, что не было политического и идеологического обоснования для всего этого. Понимаешь, изначально государство строилось на очень жесткой экономии, которая была доминантой всей жизни, но в какой-то момент она этой доминантой быть перестает – и начинается кризис. И все попытки что-то сделать будут восприниматься как отклонение от подлинного ленинского знания. Почитайте дневник товарища Черняева Анатолия Сергеевича, заместителя заведующего Международным отделом ЦК КПСС. Он пишет: «Наверное, мы Ленина трактуем неправильно». У них в Политбюро спор идет не о том, как повысить производительность какой-то отрасли; не о том, как сделать ее конкурентоспособной, а о том, как правильно трактовать Ленина!
Д. Куликов:Тут, понимаешь, вопрос бесчеловечности. Вот освоение Америки, все это распределение было очень бесчеловечным. Даже не в отношении индейцев, а между белым населением. Социал-дарвинизм. Режим выживания. И до сих пор, если у них какая-то отрасль нерентабельна, она сдыхает, а они едут через всю страну искать другое место, и никого это не волнует. Открыли сланцевый газ – все поехали в эти пески и сидят там, понимаешь? Как ехали на Аляску золото добывать. Предположим, что у нас в конце 1960-х объявляют реформу сельского хозяйства. Миллионы советских колхозников организованно выселяются на Дальний Восток. Вы можете себе это представить?
Г. Саралидзе:Нет, конечно. Но безусловное завоевание советского проекта – это умение создавать такие проекты, которые увлекают массы людей. Собственно, сам советский проект был таким. И мне кажется, что умение создавать, умение ставить цель – это его конкурентное преимущество.
Д. Куликов:А ты помнишь проект поворота рек?
Г. Саралидзе:Да, было дело.
Д. Куликов:Может, этот проект и был неправильным, я его не защищаю. Но вспомните истерию, когда на сломе советской власти кричали: «Это же было издевательство! Вы задумали проект поворота рек, а у вас даже колбасы нет!» И вообще, мысль о том, что нужно проектировать свое будущее, считалась главным признаком тоталитарного сознания. Живи как есть, что тебе еще надо?! Живи, радуйся! Зачем тебе это государство на шее? Это ж тоталитаризм, за тебя определяют твое будущее! Вот живем. Без тоталитаризма. Правда, не знаем, что будет завтра, и ниоткуда узнать не можем, потому что у нас плана нет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу