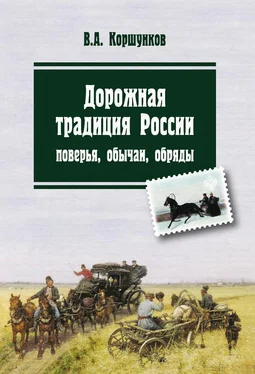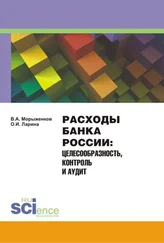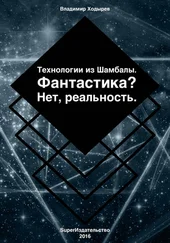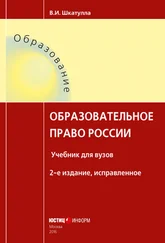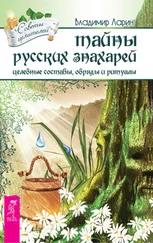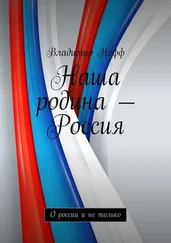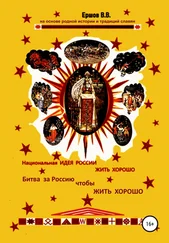Иногда даже пишут, что путь был «никаким локусом», «миром небытия» [23]. Такое, конечно, в известном смысле крайность. Всё же это не совсем «мир небытия» – бытие там, в пути, имеется, и очень даже насыщенное. Дорожные опасности – мифологически осмысляемые, да и вполне реальные – повышают жизненный накал. И уж точно это не провал в пространстве: дорожный «локус» – он вполне себе «какой». Но заострить таким образом мысль об изначальной иномирности пути, о вывороченности дорожной ситуации по отношению к обыденной, домашней, – имеет смысл.
Характерно поверье: «Если больной бредит дорогой (о дороге, о конях), то умрёт» [24]. Конь, между прочим, в древности был главным животным на похоронах, с его помощью добирались до «того света», он вообще считался «нечистым» животным и имел отношение к потустороннему миру [25]. Известно, что поначалу в военном деле на Руси кони почти не использовались – преобладал пеший строй, как и у скандинавов. А. Е. Мусин, исследовавший воинскую культуру Древней Руси, даже высказывал предположение, что слишком медленная адаптация коня на Руси может быть связана с «неоднозначным», как он писал, отношением к этому животному. Имеется в виду, что конь был жертвенным животным. Археологи часто обнаруживают, что черепа молодых коней применялись в качестве строительной жертвы. Конь бывал смертоносен – это явствует хотя бы из легенды о смерти князя Олега. Конь перевозил на «тот свет». Вот и в погребениях он – жертвенное животное. Причём характер погребальных комплексов с конским снаряжением парадно-сакральный, а не повседневный. В летописном рассказе о загадочных событиях 1092 г. в Полоцке, когда «навье» (то есть мертвецы), скача на конях по улицам, «побивало» полочан, эти мёртвые наездники явно воспринимались как всадники Апокалипсиса. Тем более что в 1092 г. на Руси примечали очередное рубежное приближение даты конца света, приходившейся, согласно средневековым представлениям, на 1492 г. Мусин заключал: «Возможно, что именно этот эсхатологический аспект восприятия коня на Руси и тормозил адаптацию его в местной культуре». По его версии, только к XII в., наконец, стали привыкать к коню как к доброму другу и помощнику. Но нашествие конных воинов монголо-татар воскресило апокалипсические ассоциации [26].
Сани в древности тоже применялись в погребальном обряде – не только зимой, но и летом: на них волокли тело покойника к месту захоронения. Этот вопрос исследовал ещё А. Н. Анучин [27]. Позднее и Д. К. Зеленин указывал: сани избирали для этого, по-видимому, потому, что они были древнейшим типом повозки [28]. В. Я. Петрухин писал: «Использование С[аней] в ритуальных процессиях, совершавшихся в разные сезоны, связано как с традиционностью самого транспортного средства, так и с состоянием дорог средневековой Руси…» А применение саней в обрядах плодородия и обновления природы, по его мнению, соотносимо с распространёнными обычаями волочить что-либо по земле, чтобы перенять её плодородие [29]. Вообще заметно, что при погребальных обрядах и используемые предметы, и сами обрядовые действия обычно бывают упрощённого, архаического типа [30]. Сани – именно такой, старинный и традиционный атрибут.
К обычаю везти тело для погребения на санях восходит древнерусский фразеологический оборот, который встречается в «Поучении» Владимира Мономаха (1117), – «сидя на санях», то есть на старости лет, в преклонном возрасте, одной ногой в могиле. Возможно, что этим же объясняется и выражение «с копыльев (копылов) долой». Копыл – это опора в виде бруска, соединяющая полозья саней с верхней их частью. Когда сани срываются с копыльев, то это значит, что они развалились. Но ещё так, с копыльев долой, несут и тело покойного, когда его довезли на санях до места погребения. И это выражение приобрело значение «умереть; упасть; потерпеть жизненную катастрофу». Когда особенности древнего похоронного обряда окончательно забылись, то диалектное слово «копыл» было переосмыслено и заменено на созвучное: стали говорить «с копыт долой» [31].
Интересно, что в речи образованных людей XIX в. проявилась такая метафора: садиться в повозку – умирать. Очевидно, это происходило под влиянием старинного выражения «сидя на санях», да и в соответствии с общеизвестными представлениями о смерти как отправлении в дальний путь. Например, в повести М. Н. Загоскина «Вечер на Хопре» (1834, 1837) явившиеся загулявшему помещику бесы (в обличье нескольких казаков и подъячего) так говорили о председателе уголовной палаты, который был известен как «сущий разбойник»: «…Мы все его приятели и ждём не дождёмся радости, когда его высокородие к нам в гости пожалует». И далее: «Конечно, приехать-то приедет, а нечего сказать, тяжёл на подъём! Месяц тому назад совсем было ужв повозку садился, да раздумал». Когда же помещик на это воскликнул, что ведь месяц назад тот «при смерти был болен», ему поддакнули: «Вот то-то и есть, сударь! По этому-то самому резонту он было совсем и собрался в дорогу» [32].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу